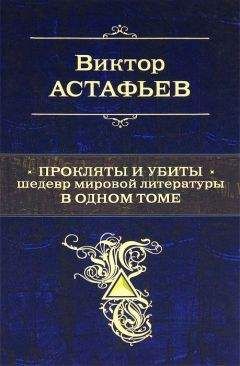– Поразительно! – хмыкнул Сабельников. – Здесь, на плацдарме, этакая странная озабоченность, если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый.
– Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, – сказал Боярчик.
– Да уж весельчак… Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?
– А? С женщиной? Я с Соней – жена это моя. А-а, почему вы спросили?…
– Да вот видишь, солдат озабочен вопросами секса, все другие – поесть да поспать бы, а он, видите… разнообразия в жизни ищет…
– Этот человек без особых претензий к миру – водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.
– Грех это, юноша, очень большой грех – желать себе смерти.
– А жить во грехе? В содоме? В сраме? Среди иуд?
– Чем же это, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло?
– Почему только со мной? А с вами? А с тысячами. этих вон, – Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега, во взбитой пене мертвецов.
– Ах, юноша, юноша! Зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что, если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать.
– А вы не устали?
– Я не имею права уставать.
– А я вот сломался, разом и навсегда.
– И хочется забыться разом и навсегда?
– Так, именно так.
Сабельников выдохнул протяжно, молчал, не шевелясь.
– Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства! Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее?… Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.
– За такую вот?
– И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни.
– А она есть, настоящая-то?
– Как понимать настоящее. Есть, конечно.
В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья, за поворотом, – не один пулемет, там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех, почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще по Черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал изпод яра планшет – и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение: чего тут мерять циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи.
– Ага, лучше всего через дуло, – насмехались высокомерные артиллеристы. – Глянул в дыру и дуй!
Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей – глянуть хоть разок в «ентот прибор», взвизгивал:
– Все как есть, знатко! Ну все как есть! – И, сраженно утихая, шепотом произнес: фри-ы-ыц! Живой! – и торопливо зачастил: – Олех, Олех, Булдаков! Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит.
– Н-ну, дед, ну и жопа же ты! – втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. – Это тебе работать неохота, навык в парторгах придуриваться. – Но, глянув в стереотрубу, Леха, все на свете видавший, все знавший, тоже сраженно сказал:
– Правда, фриц! Он че, офонарел? Я ж его… Винтовку мне, дед, винтовку…
Но в это время ударили за рекой орудия – и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька, лопашнами гребли два солдатика, и еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи, лейтенант Бабинцев – его послали заменить майора Зарубина.
– Старше и умнее никого не нашлось? – раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку: – Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи. Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, остаетесь здесь. Идите к наблюдателям. Окапывайтесь.
Нелька, вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу:
– Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют, сюда им плыть некогда. – И пошла к лодке в обнимку с раненным в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопашнах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила: – Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить.
Майор Зарубин поморщился: этакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал с удручением.
– Ладно, ладно, видно будет…
Леха же Булдаков, опять ко времени и разу, оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул, и на этот раз уже жалобно произнес;
– Эй, подруга! Приплавь обутку сорок седьмого размера. Видишь, каков я, – и показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обутки, этот бухтило, как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бикбулатову свои редкостные обутки, Булдаков, на всякий случай, не распространялся – украдут, на такую вещь кто угодно обзарится.
Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок Черевинки. Пулеметы не работали, и, праздно положив кормовое весло на колени, Нелька какое-то время не гребла, сплывая по течению.
– Ладно, земеля, – отчетливо молвила она. – Добуду я тебе прохаря по лапе.
– И выпить, и пожрать!
– Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь! – засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение.
Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея.
Но налетели самолеты, пошли на круг, через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещаньем пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду: столько боеприпасов без толку сожгли! На берег бомб упало совсем мало, но в реку и в глубь берега валилось бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцем к немцам – фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение.
Майор Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега, вот тогда начнется страшное дело – обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках.
Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые, кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть его донага не успели или не захотели – грязен больно, ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту ходила, точнее кралась тайно, жуткая песня:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит…
Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ее дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот: один живет дальше, или существует, другой успокоился. И, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват.
Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилось, – в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь; ты – туда, ты – сюда – вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: «Бульба дробна, а дурак большой». Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: «Ложку-те, едрена-те, взял ли драчону-те хлебать?!» Родион двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали – кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ, и вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит – голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы.