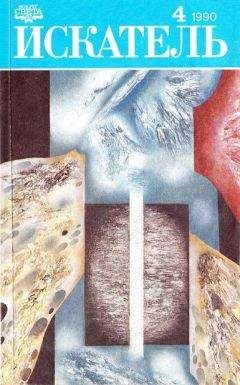Мама, похоже, за ночь обдумала ситуацию, предложение С. М., и очень убежденно заговорила об этом:
— Вот что, дочка, считаю я — тебе надо уехать. Наступает весна. Не думаю, что она оздоровит ослабленных и больных. Уж не чахотка ли у тебя? Я сегодня увидела на полотенце, в которое ты откашливалась, кровь… Здесь ты можешь умереть, а я этого не переживу. Морозов, видно по всему, очень душевный человек: если уж сейчас говорит тебе, что ему нужна твоя жизнь, то это серьезно с его стороны. Подумай, может, это твоя судьба?! Выживешь под крылом его матери, и если его пощадит война, будете вместе, станешь его женой… обо мне не беспокойся — ты же видишь, я двужильная. Если уж Кудряшов меня не доконал, Гитлеру меня не одолеть. Я совершенно теперь уверена, что не слягу, — дело идет к теплу, к травке…
Мои же мысли текли в другом направлении. Я понимала, что они нелепы для моего состояния и вида. А думала я о том будущем, когда закончится война и я, благодарная Морозову за спасение жизни, должна стать его женой. И тут же задала себе вопрос: захотела бы я стать его женой при иных, нормальных условиях: предположим — нет войны, нет всего этого ужаса и встретился на моем пути вот этот Сергей Михайлович и сделал мне предложение?.. И ответила тут же — нет, в таком плане я о нем не думала бы, не взволновалось бы чувство, и я, наверно, предложила бы ему только дружбу, товарищество.
И хотя не по времени и не к месту были эти мои размышления, я обрадовалась: значит, я жива, буду жить! Умирающий думать так, как я, не мог бы.
Вспомнила наставления тетушки о том, что никогда в жизни не надо ловчить, пользоваться удобными для тебя обстоятельствами, надо обдумывать свои поступки с заглядом в будущее, как твой поступок обернется для тебя и для других.
Попыталась объяснить маме свои мысли и чувства: «Умирать ли, выживать ли — утешительнее в своем городе, в своей халупе, нежели стать обузой для хороших людей. А возможно, и неблагодарной свиньей. Предположим, я согласилась уехать в Молотовскую область, выкормилась на хлебах С. М. и его мамы… кончилась война, и С. М. приехал… я обязана стать его женой! Ведь он даже сейчас не допускает мысли, что может быть иначе потом, окончись для него и для меня война благополучно. Меня, конечно, радует, что мы оба верим в будущую Победу.
Но не радует, что он руководствуется только своим чувством ко мне: по его словам, сразу после единственной встречи со мной он стал думать обо мне как о его будущей жене. Почему ни в одном письме не спросил, как я отношусь к нему? Как он думает обо мне? С первого взгляда полюбил, что ли?»
Мама вставила реплику:
— Если бы не полюбил, то и не соврал бы своему начальству, будто «жена в блокадном Ленинграде»!
— Что же получается, мама! Любовь может толкнуть человека на ложь? А мне мои воспитатели и книги внушали, что любовь очищает, облагораживает человека!
— Ой, какая ты еще дура. Права твоя Ольга, что ты блаженненькая… Даже стыдно слушать… Одной ногой стоит в братской могиле, а рассуждает о любви… Постарайся увидеть себя сегодняшнюю и спаси себя ради меня, ради Сергея Михайловича. Я с благодарностью уверенно вручила бы твою жизнь в его надежные руки. Будь благоразумной, рассудительной. Говорю тебе исходя из опыта своей жизни. Искалечила я свою жизнь своими двумя легкомысленными замужествами!
— Между прочим, насколько мне известно, оба раза ты выходила замуж по любви. Другое дело — оправданно ли, благоразумно ли, но по большому чувству — иначе поступить не могла.
— Аня, твои слова не к месту сейчас. Поверь мне, ранее неблагоразумной, что если в будущем судьбе угодно соединить С. М. и тебя — ты будешь жить с ним как у Христа за пазухой. Он ведь обращается с тобой, как добрая нянька, а ты сейчас — живые мощи. Значит, он действительно тебя любит. Иди навстречу своей судьбе…
Нет, не понимает меня мама. Маме и Сергею Михайловичу, каждому по своим соображениям, нужна моя жизнь: ей — жизнь дочки, ему — жизнь будущей жены.
Я достала из-под подушки свой дневник, придвинула коптилку и быстро отдала бумаге свои мысли и чувства. Не скрою, заранее знала, что дам прочитать Сергею Михайловичу, понимая, что не сумею на словах сказать их ему.
Вечером он прочитал. Очень долго молчал.
— То, что я прочитал, для меня не новость. Когда я читал ваши письма, понимал, что вы не испытываете ко мне ни капли из тех чувств, какими жил я. Думаю, что отвечать на мои письма вы согласились от одиночества — вам нужен был товарищ. Ваши письма являли образец патриотизма, товарищества. А у меня и так этого много; я хотел получать нежные письма. Но понимал, если я в своих письмах возьму такой тон, то совсем лишусь ваших писем…
А теперь между нами встала моя ложь начальству; документ на выезд, где Аня Орлова названа женой лейтенанта Морозова. Я хотел поступком, а не словами сказать, как вы мне дороги. Теперь я понял, что этого не надо было делать, чтобы не вспугнуть вас. Но я все равно искренне хочу помочь вам…
Давайте переиначим. Я согласен бухнуться в ноги командованию, признаться, что я соврал… что я не женат, а вывез из блокады любимую девушку, с которой один раз только и виделся… Может быть, простят (ведь я не специально за вами машину гонял в Ленинград, а использовал командировку — конечно, я очень старался, чтобы послали меня; я все время жил под впечатлением рассказа Лейбовича о жизни Ленинграда, о вас, о вашем отказе уехать).
Простят не простят ложь, но вас-то я спасу. Из дивизии я сумею отправить вас к матери. Успокойтесь! И матушке напишу, что вы просто моя знакомая из Ленинграда. Она у меня добрая, сердобольная. Вы выправитесь, начнете работать и можете жить по своему усмотрению. Даже даю право выйти замуж, но при условии, что только за того, кого полюбите. Для меня это очень важно (тогда вы лучше поймете меня). Но дайте слово, что не будете отказываться от моей денежной помощи, то есть тем, чем располагает моя мать, пока не окрепнете окончательно?!
Ехать я наотрез отказалась. Первый раз за блокадные месяцы я плакала — от избытка благодарности к этому удивительному человеку, от многого, что пережито и что предстоит пережить.
С. М. сказал маме:
— Елена Алексеевна, я бессилен. Конечно, хорошо бы увезти с Аней и вас, но такой возможности я уж вовсе не имею.
И тут мама вдруг разъярилась на меня:
— Да понимаешь ли ты, что делаешь! Мало того, что хорошего человека обидела, так хочешь и мое положение ухудшить, быть обузой. Неужели ты не понимаешь, что мне без тебя будет легче? Я буду все силы на себя тратить, а так я о тебе должна дрожать. Какая от тебя сейчас польза — мне, городу? Ты еле до булочной доходишь раз в сутки. Кашель, боли, кровь в мокроте — спасай себя, и мне легче будет. Ты же видишь, что я здорова, а истощение меньше твоего. Я выживу. Прорвут блокаду — вернешься в Ленинград.
И низко поклонилась Сергею Михайловичу.
Горько мне было слышать от мамы слова «обуза», «без тебя мне будет легче». Думаю, что бросала она их в меня специально — из-за страстного желания спасти. Да, права она — какую пользу я приношу? Наверно, действительно, ей без меня морально будет легче, будет думать, что для моего спасения что-то сделала.
Наверно, впервые за эти страшные месяцы так лихорадочно заработал мой мозг. Ругая себя, что летом не настояла в военкомате, чтобы отправили меня на фронт (и осенью попытка была ненастойчивая — испугалась, что подумают, будто не хочу на окопы ездить), желая страстно встать в строй и делать дело, я вдруг придумала план и сказала Сергею Михайловичу:
— Отвезите меня в свою дивизию — скажете, что подобрали меня на Ладоге (там ведь сидят уезжающие, ждут транспорта, мне рассказывали).
— Не разрешено на машинах воинских подразделений привозить в воинские части гражданских. Эвакуированных возят к эшелонам специальным транспортом…
— Но ведь вы уже согласны были «бухнуться начальству в ноги» и признаться, что не жену, а знакомую девушку вывезли… Вы же сами сказали, что так сделаете, и это было бы меньшим проступком, нежели продолжать врать… Вот и скажете, что подобрали меня на Ладоге… Не заставят же отвозить меня обратно на Ладогу… А я попрошусь оставить меня солдатом или в медицинской части санинструктором…
— Не заставят, но отправят в тыл, — сказал С. М.
— Если не примут, я вернусь с попутной машиной в Ленинград, в другое место никуда не поеду.
— Думаю, что легче выехать из Ленинграда, чем вернуться. На то и другое нужен документ. И не в вашем состоянии все это превозмочь. Не забывайте о военном положении, на все передвижения нужны бумаги…
Но мой вариант меня воодушевил, дал силы. Я встала с кровати, поела каши и сказала:
— Милый, добрый Сергей Михайлович! Если хотите мне помочь, отвезите меня как «найденыша» в дивизию, в подразделение, где есть врач или фельдшер. Я верю, что стоит мне облегчить кашель, и я скоро окрепну и буду полезна. Я не подведу вас… Я согласна выехать только на фронт! И без лжи вашей начальству.