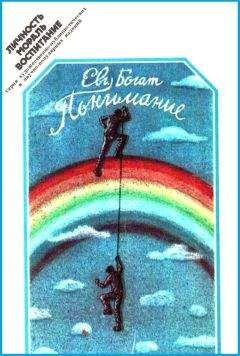Когда они испытаны, когда человек понял: «иначе не могу!» — рождается потребность в исповеди-монологе.
Написал последние строки и понял, что жизнь человеческой души куда загадочнее и непредсказуемее, чем я изобразил выше. И при всей диалогичности наших отношений с людьми, обществом и миром потребность в понимающем собеседнике рождается иногда и накануне выбора, и в стадии его, а но тогда лишь только, когда он совершен.
Любая исповедь диалогична, но часто и диалоги исповедальны. И в литературе и в жизни. С этой мыслью и войдем во второй раздел нашего повествования: нравственные монологи.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НРАВСТВЕННЫЕ МОНОЛОГИ И СИТУАЦИИ
…Разрешите в первых строках сообщить самое существенное о себе самой.
Я работаю в маленькой сельской школе, в самом отдаленном районе Подмосковья. Район этот был некогда ареной жесточайших военных событий. Несколько лет назад (уже более десяти) мы в школе решили написать летопись родного края от легендарного 1812 года, тогда у нас тоже шли ожесточенные бои с наполеоновскими войсками, до наших дней.
Не буду описывать подробно всю громаднейшую работу, потребовавшую от нас массу сил, энергии, настойчивости и времени.
По логике этой работы мы не могли не начать поиски имен солдат, погибших у нас в 1941 году на дальних подступах к столице. Было открыто немало имен, и немало замечательных судеб мы восстановили. Мы неустанно шли по тропинкам поиска, чувствуя огромную ответственность перед памятью безымянных героев.
Хочу рассказать об одной из судеб, рассказать о человеке, который оказался на тропинке поиска и остался навсегда в моем сердце.
Недавно его не стало.
Матвеев Николай Георгиевич.
Мы познакомились еще в 1967 году. По всему выходило, что он погиб, потому что вся их небольшая часть полегла на поле боя, и искали мы его родственников. А нашли его самого.
Нашли в неближнем городе, написали ему, он отозвался. Между нами завязалась переписка. Он рассказал, что до войны был учителем, теперь инвалид. По письмам никогда не подумаешь, что больной человек, столько в нем было жизни, душевных сил. Он делился интереснейшими воспоминаниями о войне, рассказывал о боевых товарищах, он писал письма и мне лично и нашим ребятам-школьникам, чтобы они были достойны тех, кто воевал и не вернулся.
В 1971 году мы наконец встретились с ним. Он возвращался из санатория в родной город и выбрал путь через Москву, чтобы с нами познакомиться. Я навсегда запомнила этот день. Холодный, зимний. Бережно укрывая под пальто озябшие гвоздики, мы стояли на перроне и ждали замечательного воина с орденами и медалями.
Мы судили по фотографии, которую он послал нам ранее.
Мы ждали и не заметили, как кого-то унесли на носилках. Лишь через сорок минут мы увидели его в медпункте вокзала. Перед нами был человек без ног и руки, сидящий в коляске.
Мы, безусловно, были поражены, в горле у нас стоял ком, даже у моих «каменных» мальчишек ходуном ходили губы. И тут огромную роль сыграла учительская интуиция самого Матвеева, он сумел мигом снять растерянность и неловкость, встреча получилась теплой и содержательной.
Но потрясение осталось. Когда мы на следующий день на линейке рассказывали об этом всем ребятам, не было мальчика или девочки, которые не заплакали бы.
Писали мы ему потом всей школой. Договорились ни о чем не расспрашивать; но каждый старался нехитрыми детскими новостями как-то отвлечь нашего замечательного товарища от его недугов. Насколько это нам удавалось, я узнала позже из его писем.
Я обращала внимание детей на необыкновенную волю, поистине корчагинскую стойкость, мужество, оптимизм, большую гражданственность. Я говорила детям о сердце коммуниста, рассказывала о том, как война оборвала все его мечты и надежды. Он горел в танке одиннадцать раз.
Мы много писали ему, мы навещали его, не смущаясь неближним расстоянием, и доктора потом нам писали, что болезнь после наших «нашествий» отступала.
Помимо писем, адресованных ребятам, он писал мне лично, как руководителю этой «ребячьей армии» (по его выражению). Но я чувствовала, что его интересует нечто мое.
Я понимала его тоску по школе, его оборванные жестокой войной мечты и как могла писала о наших заботах и тревогах, короче, обо всем, чем наполнена наша будничная школьная жизнь. Он мне отвечал сердечно, с благодарностью, но я чувствовала, что в моих письмах к нему он чего-то не находит, может быть, самого дорогого…
Целое лето мы обычно с ребятами путешествуем и по лесам, и по бывшим военным дорогам нашей страны. Ведь наши поиски познакомили нас с «целым светом», и мы ходим, ездим, навещаем наших друзей, обретенных в ходе переписки.
Обо всем этом я рассказывала Николаю Георгиевичу. Я ему писала о наших поисках и путешествиях, не догадываясь (хотя могла бы догадаться), что человек этот не успел полюбить в юности, а потребность в любви в нем жила, жила до поры до времени подспудно. Я чувствовала к нему все большее доверие и однажды написала ему о моей личной жизни, о любви к человеку, который трагически погиб.
После этого письма он долго молчал.
Потом переписка возобновилась, но что-то ушло из нее. Она стала суше, поверхностнее.
Но я не особенно задумывалась — почему.
И вот теперь, когда его уже нет в живых, в моих руках письма, которые он писал мне и не посылал (люди, бывшие с ним в последние месяцы, решили, что я должна их получить). В этих письмах целая буря, целая драма, которая разыгралась в душе этого сильного, мужественного человека. Читая их, я поняла, что невольно и бездумно нанесла ему еще одну рану в дополнение к тем бесчисленным, которые были у него раньше.
Он переживал, мучительно переживал это, может быть, первое и последнее чувство в жизни, мне сейчас больно, поэтому я все это пишу Вам. А если Вас все это заинтересует, напишу еще.
У Вас, конечно, возникнет вопрос, что я могла бы изменить, если бы раньше догадалась о его чувстве, думаю, что могла бы что-то изменить. Когда я сейчас перечитываю мои письма к нему (мне их тоже вернули), до чего же бездушными они мне кажутся!
Я ему писала о мероприятиях, о напряженной жизни поисковых отрядов, о деловой заинтересованности ребят, о том, что в наших мастерских пахнет стружкой, клеем, смолой, я ему писала о военно-патриотических играх, писала о мальчишках, которых люблю. Ему, конечно, все это было бесконечно интересно. Он углублялся в детали нашей жизни, даже задавал вопросы: «что за кашу варим во время похода», «как одеваемся в большие морозы?» и т. д.
Я испытываю чувство глубокой вины перед памятью этого человека. Конечно, умом понимаю, что ни в чем не виновата. А сердце раскаивается и болит.
Может быть, дело в том, что я получила одностороннее воспитание? Мне рассказывали о корчагинской стойкости и меньше посвящали в странности человеческого сердца, в сложность человеческих отношений. Но ведь и Павка Корчагин был сложнейшей личностью: любил, отчаивался, думал о самоубийстве.
Последнюю рану Матвееву Николаю Георгиевичу, замечательному человеку, которого мы нашли в пашем поиске героев, последнюю рану нанесла ему я. (Хотя бы и рассказом о человеке, которого любила…) Последнюю и, может быть, самую мучительную.
И вот теперь бессонными ночами я думаю: может быть, несмотря ни на что, несмотря на все наши успехи и труды, я оказалась беспомощной и несостоятельной в самом важном для педагога: в понимании человеческой души?
В. Л.Я стоял на кромке шоссе, лицом к ветру, тщетно пытаясь остановить одну из попутных машин. Пятна фар, похожие на маленькие морозные луны, рождались то ли в небе, то ли на земле, в молочных сумерках вьюги, неслись на меня, становились все ярче, слепили… Я отчаянно махал обеими руками, меня обдавало жарким снегом, и огнеглазое чудище исчезало, стихая… Наверное, тысячи лет назад первобытный пращур мой испытывал ту же великую беззащитность, умоляя о милости таинственных грозных богов.
Машины летели мимо, вьюга усердствовала, и уже не ранний вечер — ночь с ее неизмеримой глубиной чудилась в этом сумрачном, в этом стонущем вихре.
Я отчаялся и подумывал о том, не вернуться ли мне обратно, в усадьбу совхоза, откуда я вышел не вовремя, опоздав на рейсовый автобус.
И опять вылупились из непроглядно-белой мути две маленькие луны и, становясь все ярче, понеслись на меня. Я слабо поднял руку… машина остановилась шагах в пятидесяти. Подбежав, я увидел, что это допотопная, потрепанная полуторатонка. Судорожно рванул на себя ручку кабины и нырнул в чудеснейшую теплынь, пахнущую табаком и бензином.
Мы поехали, и сквозь ветровое стекло я посмотрел на шоссе в белых барашках поземки спокойно, даже с интересом, точно мне показывали это в кино.