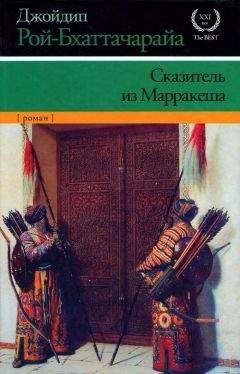В ресторане царила тишина, а с площади доносился барабанный бой, как обычно, вперемежку с одобрительными возгласами, хлопками и свистом.
Чужестранец вздрогнул и отвел взгляд.
И заговорил, будто сам с собой:
— Иногда еще спасибо скажешь судьбе за новую беду, ибо она отвлекает от беды прежней, что томила душу и разум.
Я так и не понял, ко мне ли обращался чужестранец, и хотел переспросить, но он вдруг взял жену за руку и медленно погладил длинные пальцы, кисть, запястье. Обращаясь теперь уж точно к ней, чужестранец сказал:
— Когда главное в жизни представляется неподконтрольным, способность контролировать мелочи приобретает чрезмерную важность.
Женщина неотрывно смотрела на него. Хотя она сидела в профиль ко мне, я видел, что и глаза, и густые ресницы мокры от слез.
— Нужно идти, — произнесла она.
Он притянут ее к себе, продолжая гладить пальцы. Она скрестила ноги, замерла, положила голову ему на плечо. Оба смотрели прямо перед собой, в темноту площади, и были настолько поглощены друг другом, что, кажется, позабыли о моем присутствии.
Женщина крепче прижалась к мужу.
— Далеко отсюда до пустыни, милый?
— Вовсе нет, любовь моя. Близость пустыни здесь ощутима повсюду.
— Я слышала, пустыня бездонна словно океан.
— В пустыне самые прекрасные закаты и восходы; по крайней мере так говорят. Говорят, пурпурный свет омывает барханы, льется на белые лица скал.
Она заглянула ему в глаза:
— Это ведь искушение, верно?
Он выразил согласие кивком.
— Должно быть, со временем человек сам становится частью пустыни, — произнес он. — Тенью пустыни, без плоти и сути.
Они все так же смотрели на окна. Мужчина развернул запястье женщины, и я заметил грубый рубец шрама с внутренней стороны, там, где вены.
Через некоторое время, будто вспомнив, что они не одни, чужестранец взглянул на меня и виновато улыбнулся.
— Спасибо, что беспокоитесь за нас. Только напрасно — мы вполне способны о себе позаботиться. Мы уже уходим.
Я понял, что мешаю. Поклонился и ушел. Грусть охватила меня. Чужестранцы сидели за столом, прижавшись друг к другу, не как два отдельных человека, каждый со своей бедой, а словно сплавленные в единое целое, неразделимое.
Я смерил Набиля недоверчивым взглядом.
— То есть ты хочешь сказать, что позволил чужестранке вернуться на площадь, несмотря на случившееся, и что даже муж ее не стал отговаривать?
— Именно так, дорогой мой рассказчик. Чужестранка снова пошла на площадь. Что вызывает твое недоверие? Ей так хотелось, и она объявила о своем желании; вряд ли муж, а тем более я, мог ее отговорить. Она бы все равно не послушалась, невзирая на мои предостережения. Что касается мужа, он, видимо, просто смирился и, последовав за женой, избежал ссоры.
Я опять не поверил, о чем и заявил без обиняков.
— Да что тебя так удивляет, Хасан? Это ведь в женском характере — желать запретного.
— Нет, — упирался я. — Это неправильно. Не могу с тобой согласиться.
— Где уж тебе, неисправимому идеалисту.
Во взгляде Набиля мелькнула тревога.
— Впрочем, отсюда вытекает совершенно другой вопрос. Нечто в этих чужестранцах — особенно в мужчине — напомнило мне тебя, Хасан. Есть у вас с ним общая черта.
— Какая же?
— Сам постоянно этим вопросом задаюсь, но до ответа пока не додумался. Может, все дело в том, что вы из одного племени — племени рассказчиков. А может, истории тут ни при чем; может, проблема куда глубже.
— Глубже? В каком смысле, дружище?
— Я часто об этом думал, — печально произнес Набиль, — и всякий раз гнал неизбежно возникавший вопрос. Очень уж он, вопрос, для тебя обидный.
— Что за вопрос, Набиль?
— Я надеялся, ты не станешь допытываться, Хасан.
— А я вот допытываюсь.
— Значит, едва вопрос будет облечен в слова, ты поймешь, почему я называю его обидным. Смущение же мое вполне сравнится с твоим.
— Не важно. Говори.
— Хорошо. Ответь, Хасан, в ту ночь ты был сообщником чужестранцев — или их врагом?
Я рассмеялся.
— Ты не преувеличивал. Вопрос и правда обидный.
— Я предупреждал.
— В любом случае, Набиль, я бы тебе все равно не сказал, сообщником я был или врагом. Я бы их не выдал.
— Теперь, наверно, надо рассказать о моем друге Набиле — не просто друге, а, пожалуй, самом близком человеке. Поэтому, с вашего позволения, дорогие слушатели, я это и сделаю.
Тут послышалось недовольное ворчание, и я удивленно замолчал. Раздался резкий голос, принадлежавший мрачному, насупленному человеку, судя по телосложению — кузнецу.
— Довольно отступлений! Мы не хотим слушать про этого твоего Набиля. Мы хотим узнать, что случилось с чужестранкой и ее мужем. Не отклоняйся от темы.
— Прости, — отвечал я, немалым усилием удерживая почтительный тон, — да только мой друг Набиль нынче среди нас, а поскольку он ближе кого бы то ни было подошел к истине, я должен отблагодарить его за изыскания. Так у нас принято.
— Ну и в чем эта истина? — напирал кузнец.
— Если ты наберешься терпения, — наставительно произнес я, — то, пожалуй, и ты к истине приблизишься. Грубые же реплики только углубляют пропасть между истиной и тобой.
— Но ведь ты злоупотребляешь отступлениями, причем совершенно ненужными! — не сдавался кузнец.
Я всплеснул руками.
— А ты другого ожидал? Я ведь, в конце концов, уличный рассказчик, вдобавок свято почитающий традиции нашего ремесла. Хочешь легких развлечений — ступай в ближайший кинотеатр и наслаждайся на здоровье. Терпение не просто твоя обязанность как слушателя, но и способ учиться независимости от бега времени и потока ежедневных забот. От тебя всего-то и требуется: не перебивать рассказчика. Не надо принуждать себя к пониманию — достаточно просто слушать. История дает пищу для размышлений, ты же несешь ответственность за нее, ибо и от твоего внимания тоже зависит как живость изложения, так и самое существование истории. — И уже примирительно добавил: — Если бы были одни ответы, без вопросов, и рассказывать было бы не о чем. Следовательно, рассказчик, предлагающий только ответы, предлагает пустышку. Искусство рассказчика живет лишь тогда, когда в истории, подобно крови в теле, циркулирует тайна. Разум идеального слушателя впитывает тайну, однако не ищет разгадки. Элементы истории сами по себе не являются абсолютами, но суть остановки, станции на пути к финалу.
— Так каков, каков финал? — упрямо настаивал кузнец.
Я смотрел ему в лицо, тянул время, облекая в слова ответ. Наконец, с максимально возможной в данных обстоятельствах учтивостью, произнес:
— История имеет право на непоследовательность и даже бегство.
Эти слова заставили кузнеца замолчать, и больше я не слышал недовольного бурчания среди слушателей. Я переплел пальцы и с минуту выждал, затем продолжил речь ровно с того места, на котором уронил нить истории.
Подобно мне мой друг Набиль — приверженец традиций. Вероятно, это связано с его происхождением — из древнейшего рода в долине реки Зиз. Дедушке Набиля принадлежал самый прекрасный в Тафилалете оазис с финиковыми пальмами.
До известной степени я равняюсь на Набиля. Во-первых, я бы хотел жить так, как он, конечно, за вычетом трагических обстоятельств, к этому образу жизни приведших. Несколько лет назад Набиль ослеп, когда чистил дедово старинное ружье. Тогда Набиль взял все свои сбережения и удалился в Тауз, селение на краю Сахары. Там, у Хамада-Гир, каменистой пустоши, печально известной жестокими песчаными бурями, Набиль и живет со своей француженкой-женой Изабель — они познакомились в Марракеше, и с тех пор Изабель носит чадру. Я не имел удовольствия с ней встречаться — Набиль бережет ее уединение, что вполне понятно, — однако слышал, что она очень красива и служит отрадой моему другу в его слепоте. Может, поэтому Набилю и нравится жить отшельником. Лишь раз в году, зимой, Набиль покидает жилище и удостаивает Марракеш визитом, подгадывая так, чтобы визит совпал с моей работой на Джемаа. И неизбежно в каждый приезд Набиля я рассказываю об исчезновении чужестранцев, ибо, подобно мне, Набиль пребывает под обаянием тайны происшедшего.
Я замолчал и с жаром стиснул Набилю локоть.
— Ну как у меня получается, Набиль?
Он чуть улыбнулся и качнул головой, ибо из-за природной застенчивости не любил оказываться в центре внимания.
Я держал паузу, чтобы дать Набилю возможность ответить, но, поскольку он молчал, продолжил рассказ о нем.
— Дед Набиля был землевладельцем по рождению и сокольничим по призванию, — говорил я. — Набиль вспоминает, что дед держал тридцать соколов разом, сам ухаживал за ними и сам обучал. В те дни щедрость природы не заставляла людей трудиться в поте лица — единственная задача родных Набиля была каждый октябрь собирать урожай со знаменитых финиковых пальм. А потом, ни с того ни с сего, пальмы поразил плесневый грибок фузариум, и за год погибло две тысячи этих восхитительных деревьев. Через несколько лет все повторилось, и престарелый дедушка Набиля, уже не способный бороться с последствиями фузариоза, удалился под защиту своего ксара и во тьму зарождающегося и постепенно набирающего силы безумия. По словам Набиля, домочадцы, воспитанные в традициях слепого повиновения главе рода, не сразу поняли, что старик больше не хозяин своему разуму. Но даже тогда искушение отрицать реальность оказалось слишком сильным. Отец Набиля, единственный сын и наследник, был далеко, в Рабате — учился на инженера, а запуганные женщины не смели перечить старику, сумасбродство которого быстро усугублялось. Лишь когда ранним утром женщины услышали тридцать выстрелов подряд, выбежали во двор и обнаружили тридцать еще теплых трупиков соколов, обожаемых восьмидесятилетним патриархом — каждый сокол получил выстрел в головку, столь точный, что капелька крови на клюве была единственным свидетельством жестокой смерти, — лишь тогда женщины в полной мере осознали, что за беда на них свалилась. Однако было поздно. Старик успел оседлать любимого скакуна, вороного араба-полукровку с пышной гривой и хвостом, и ускакал в Эрфуд, на празднество, которым завершается ежегодный трехдневный моссем. Ровно в полдень, когда солнце было в зените, он приблизился к группе таких же патриархов, и под аккомпанемент барабанов и аплодисментов, уже в самом конце представления, когда всадники-распорядители выстрелили из своих мокал — длинноствольных, украшенных серебром трофейных ружей, — старик камнем рухнул с коня и, бездыханный, остался лежать на земле.