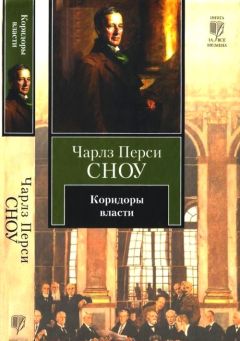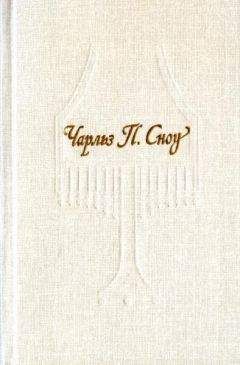Хорошо поставленным голосом Диана отрапортовала, что скачки — развлечение профанов. С другой стороны, резкость, видимо, объяснялась личным счастьем. Диана хотела поужинать со своим архитектором. О правительстве она упомянула исключительно из вежливости, ибо мы уже собирались уходить.
— Похоже, они наконец пришли к общему знаменателю, — сказала Диана.
Мысль поддержали, по большей части нечленораздельно.
— Роджер все правильно делает, — продолжила Диана, уже в мой адрес. Интонация была утвердительная — Диана сама знает, мое мнение ей без надобности. — Реджи Коллингвуд им доволен. — Мы приближались к двери. — Совершенно доволен. Говорит, Роджер умеет слушать.
После этой новости, однозначно обнадеживающей, я вышел тоже совершенно довольный. Объективно замечание Коллингвуда верно; впрочем, с учетом, что Роджер едва ли не лучший оратор в Лондоне, комплимента он дождался весьма сомнительного.
Весь сентябрь, несмотря на перерыв в заседаниях палаты общин, Роджер исправно ходил на службу. Был, как выражаются чиновники, сезон отпусков. Дуглас уехал отдыхать; Гектор Роуз — тоже. Секретари Роджера известили меня о целом ряде совещаний, требовавших моего присутствия. Перед началом одного такого совещания Роджер самым будничным тоном попросил меня задержаться — дескать, надо поговорить.
Председательствовал он несколько рассеянно. Казалось, его гложут совершен но посторонние заботы. В частности, нехарактерно долго подбирал слова, как человек, измотанный морально и физически. Я не придал этому обстоятельству должного значения — совещание все равно проходило с пользой. Я отметил несколько новых лиц — это вместо министров явились заместители и помощники. Выступления отличались компетентностью; в общем, дело двигалось.
Собрание обнесли слабым чаем с молоком и печеньем. Роджер руководил привычно и умело. Может, он и устал, но на работе усталость не отражалась. Он не поторапливал коллег, не ускорял дозревание выводов. Таким образом, портфели были собраны, лишь когда пробило шесть. С привычной неспешной вежливостью Роджер попрощался с коллегами, каждому лично выразил благодарность за присутствие, и мы остались одни.
— По-моему, Роджер, мы плодотворно поработали.
Последовала пауза, будто она требовалась Роджеру, чтобы вспомнить, о чем это я.
— Да, вроде плодотворно, — наконец откликнулся Роджер.
Я поднялся, стал потягиваться. Роджер будто застыл в председательском кресле. Возвел на меня взгляд, нарочито невыразительный, и предложил:
— Льюис, вы не против прогуляться по парку?
Мы прошли несколькими коридорами, спустились по каменной лестнице. За нами закрылась парадная министерская дверь. Далее путь наш лежал вдоль озера; над темной водой захлопал крыльями пеликан. Деревья поскрипывали на резком ветру; в траве перешептывались первые сухие листья. Вечер был ненастный, на западе группировались низкие серые тучи. С самого выхода из кабинета Роджер ни слова не проронил. На секунду я забыл об его присутствии. От запаха стоячей осенней воды, от осенних сумерек на меня накатывает неизъяснимая, острая грусть — некоторые зовут ее счастьем. Мною овладевают воспоминания, слишком смутные даже для воспоминаний, действуют обстоятельства места, слишком неопределенные для таковых — будто осеннего вечера, когда моя первая любовь, давно почившая, на мое предложение хмуро сказала «да», и вовсе никогда не было.
Мы молча брели по дорожке. Впереди маячили женские силуэты — это спешили по домам секретарши и продавщицы. Из-за ветра скамейки у воды пустовали.
— Присядем? — предложил внезапно Роджер.
По воде бежала знобкая рябь. Мы уселись. И тут Роджер, не меняя тона, бросил:
— Могут возникнуть проблемы. Вероятность невелика, однако и не близка к нулю.
Я словно очнулся. Первой мыслью было спросить, не решил ли кто из его сторонников — не важно, человек масштаба Коллингвуда или заднескамеечник — переметнуться.
— Нет. Ничего подобного. Дело совершенно в другом.
Он что же, намерен выдать некую шокирующую информацию? О природе таковой я ни версии не имел. Молчал. Думал, Роджер сейчас соберется и скажет. Но он только головой мотнул.
Когда доходит до дела, одного личного доверия, чтобы собраться, недостаточно. Роджер неотрывно смотрел на воду. Наконец произнес:
— У меня есть женщина.
Целую секунду я не ощущал ничего, кроме изумления.
— Мы были очень осторожны. Но теперь ее шантажируют. Кто-то пронюхал про нас.
— Кто?
— Ей звонили по телефону; она не узнала голос.
— Думаете, угроза реальная?
— Поди пойми.
— Чего конкретно вы боитесь?
Роджер ответил не сразу.
— Раскрытие нашей связи может повредить работе.
Удивление не отпускало меня. Я привык считать, что Роджер вполне счастлив в браке. То был брак человека деятельного; ничего не исключающий, однако надежный — этакий альянс двух сильных сторон. Беспокойство Роджера отчасти передалось и мне, глодало изнутри; я не знал, как унять червивый зуд. Чего Роджеру не хватало? — задавался я вопросом, обывательски-бездушно, вполне в стиле моей матери. Привлекательная жена, дети, дом — полная чаша; зачем было рисковать? Неужели удовольствие стоит его карьеры — а заодно и моей? Я мысленно обвинял Роджера в выражениях, непозволительных для человека, которому доводилось как наблюдать чужие страдания, так и самому быть их причиной.
В то же время меня не оставляло ощущение теплоты — именно внутренней, гнездящейся в груди теплоты, а не, к примеру, одобрения действий Роджера. Да, он признался мне из страха, но он все равно хотел признаться. Иному благородство не позволяет похвалиться победой — такой хватается за шантаж как за повод. Просветление лица Роджера было вызвано радостью более чистой. Я покосился на него. Роджер не сводил глаз с воды, избегал моего взгляда. Наверно, у него женщин было раз-два и обчелся, подумал я. А ведь он очень эмоциональный. Часто эмоциональность — показатель страстной натуры. Роджер, напрягшийся лицом, отягощенный мыслями об опасности, тем не менее, казалось, ничуть не сожалеет о постигшей его страсти — так ведут себя, пока не оглашен приговор. Я сделал над собой усилие — задал вопрос практического свойства. Каковы шансы, что об их отношениях станет известно?
— Она боится. Раньше она никогда не теряла самообладания.
Возможно, раньше ей не грозил скандал, заметил я. Впрочем, технология давно разработана, и не нами. Нужно найти хорошего адвоката, все ему рассказать.
— У вас ведь нет повода думать, что сплетни уже расползлись? Лично я даже намеков не слышал.
Роджер качнул головой.
— Тогда залатать дыру будет нетрудно.
Он молча глядел на воду. Я выждал с полминуты, понял, что не убедил Роджера. Прибег к целой тираде.
— Не сомневаюсь, все можно исправить. Успокойте ее, хоть с моих слов. Но даже если нельзя, если случится худшее — это не конец света, верно? — Я продолжал в том духе, что люди в наших кругах ведь привыкли еще и не к таким скандалам.
— Вы занимаетесь самообманом, — перебил Роджер. — Все гораздо сложнее.
Может, он о чем-то умалчивает? Может, у него связь с совсем юной девушкой?
— Разве есть отягчающие обстоятельства? — уточнил я. — Кто она?
Роджер не нашел в себе сил ответить. Долго молчал, и вдруг буквально забросал меня аргументами.
— Не важно, что делается, важно — кем делается. Вы не хуже меня знаете, Льюис, — очень многие только и ждут повода, чтобы нож мне в спину вонзить. Неужели не понятно: внебрачная связь — мечта, а не повод?
— Чем конкретно вам могут навредить?
— В англиканской церкви в ходу один афоризм: «Скандальное поведение — простительно. Скандальные убеждения — простительны. Непростительно их сочетание».
На секунду Роджер как бы воспрянул. Обычным своим резким тоном, почти с издевкой, он добавил:
— Не забывайте: в семье ваш покорный слуга был и остается чужим. Может, если бы они меня признали, я бы и на сочетании выехал.
Что он разумеет под «семьей»?
Представители тесного привилегированного кружка: всякие Кейвы, Уиндхемы, Коллингвуды, приятели Дианы, Бриджуотеры — могут сколько угодно отдавать предпочтение Роджеру перед «своими», но определенные вещи «своим» прощать с легкостью, а «чужим» — ни за что не прощать.
— Верно, — сказал я, — вы для них чужой. Зато Каро — своя.
Я намеренно назвал это имя. Последовало молчание. Затем Роджер ответил на не заданный мною вопрос:
— Если все раскроется, Каро будет на моей стороне.
— Так она не знает?
Роджер покачал головой и вдруг выпалил:
— Не допущу, чтобы Каро страдала.
Прозвучало агрессивнее, чем все сказанное до сих пор. Видимо, Роджер акцентировал одно обстоятельство — риск огласки, в моих глазах по-прежнему маловероятный, — с целью скрыть обстоятельство другое, причем от себя самого. Что его мучает? До каких пределов он связан? Внезапно я понял, почему Роджер с таким жаром защищал Сэммикинса. Не только меня и прочих гостей смутила и озадачила тогда его реакция — она смутила и озадачила самого Роджера. Да, он показал рыцарское отношение к жене — но не было ли с рыцарством перебора? Не является ли подобное самоотрицание признаком мужа, который слишком многим жертвует ради жены, единственно чтобы возместить ей отсутствие любви и верности?