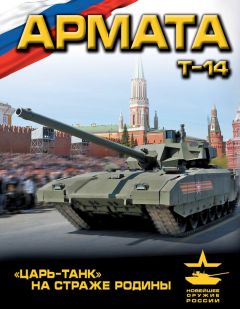Что помнит он об отце? Что-то узкое, в черном блестящем костюме, движется по торцовой мостовой. На стульях газеты и книги. Вот отец выпрыгивает из окна на грядку с зелеными луковыми стрелками и передает матери росистый пучок. Потом впрыгивает на кухню. И они едят что-то горячее и вкусное со сковородки. Отец напевает и стучит черенком вилки по столу.
…Потом он мучительно всматривался во фронтовые кинохроники, пытаясь рассмотреть там отца. Как идут они под страшным ноябрьским небом с трехлинеечками, обходя лужи. И такая там тоска. И неужели все только потому, что у какого-то мозгляка с картофельным носом и челкой недоставало одного яичка в мошонке и свой комплекс неполноценности он обратил во властолюбие и ненависть. Тут некая тайна. Тут две гнили столкнулись, две гнили. А через сорок лет пришла справка для ОВИРа из военно-медицинского музея: «Сквозное ранение в легкое… Командир взвода девятнадцатой стрелковой бригады… погиб на станции Калач, под Сталинградом».
Старость матери – это смерть нашей первой любви. Семнадцать лет назад, по приезде в Америку, она была еще довольно крепкой. Но твоя молодая мать уже ушла. Ее нет, а жизнь этой скрюченной старушки бессмысленна, как бессмысленна вся наша жизнь. Почему Бог сначала дает жизнь, а потом заставляет расплачиваться за нее такими муками: гипертония, артрит, диабет, сожравший один ее голубой глаз… Она оборачивает варикозные черные ноги полотняными онучами, и они волочатся за нею по полу. Она уже ничего не понимает в настоящем, но зорко всматривается в прошлое единственным своим глазом.
– На Урале, в эвакуации, в деревне Соколово, у тебя была скарлатина, и ты лежал весь горячий, бледный в избе, у самой двери, на холоде. В избу не пускали – заразишь. Я тебя укрыла всем, что было на мне, а сама побежала за пять километров, за фельдшером. Он пришел – говорит: не корь это, скарлатина. Есть было нечего. Я пошла побираться. Дали мороженый ржаной сухарь. Я под мышкой у себя отогрела, клала тебе по крошке в рот…
Она плакала единственным своим глазом.
– А ты горячий был и бледный. Выпросила у хозяйки полстакана молока. Капала в кипяток по капле – поила тебя. А бабы-то мне: ты яврейка хитрая, вакуированная. У тебя, бають, два пуда муки под кроватью спрятаны…
Она плачет порой без причины. Молчит, а потом заплачет. От воспоминаний.
– А помнишь, как директор школы, Андрей Андреевич Фокин, на выпускном вечере посадил меня в президиум и вручил мне твою золотую медаль?
– Ну и что же из этого получилось?
Мартин Борман в расшитой петухами рубахе сидел на деревянном троне с высокой резной спинкой. Подстригал ножницами волосы на конопатой руке, отваживал медалистов-евреев от первейшего вуза страны:
– У нас нет для вас общежития. Придется снимать квартиру.
– Но я один из тысячи. Понимаете? Единственная золотая медаль на всю школу.
– Идите.
В приемной комиссии метались еврейские матери.
– Вам отказано в приеме. Отказано.
К Московскому авиационному институту имени Орджоникидзе подступали бараки с цветущими картофельными огородами. Тогда, в семнадцать, он постигнул: разумная действительность неразумна и недействительна.
В ту ночь в общежитии ему был сон-воспоминание. Тысяча учеников его школы шли шеренгой по заливному лугу, сцепившись руками, через весь цветущий луг, и скандировали:
Вернулся джида с Палестины
На кляче старой и худой.
Вернулся джида с Палестины
На кляче старой и худой.
И сквозь сон он чувствовал, как в плюсне у него прорастают когти.
– Нинок, не дергай машину, когда ведешь. Не дергай.
– Спокуха, Нюнюшкин. Спокуха. Уж больно ты нервный, мой брат. У моей племянницы от него язва. Он ее до язвы довел, своего любимого ребенка.
– Ты, Нинок, лучше на дорогу гляди.
– Смотри, там какие-то птицы.
– Это не птицы, а гуси.
– А ты не волнуйся, Нюнюшкин… Я опытный водитель.
– Опытный, хуёпытный.
– Я всякий раз прихожу в бешенство от таких твоих слов и забываю с тобой поругаться.
– Краса-то какая, Нинок. Еще не распустилось, а краса.
– Сизые горы с изумрудом. Как там наш трейлерочек? Думаю о нем, как о любимой собаке или лошади. Небось там внутри мышки, бурундучки зимовали. Придется всех попросить вон.
– Что ж ты, чулида непрокая, чуть не столкнулась. Ишь как он тебе бибикает. Когда меняешь ряд, оборотись. Головой своей костяною верти, чулида.
– Р-о-о-о-т, р-о-о-т закрой.
– А ты не стрекочи, не стрекочи за рулем-то. Ты покорись.
Свернули с семнадцатой на тридцатую. На плоской крыше бензоколонки сидел громадный канадский гусь. Он был страшен, как кондор. Затем канадец по-домашнему вытянул ногу, укрыл ее крылом. По кромке крыши вразвалку заходила гусыня. Полноводный кофейный Делавер блестел как стекло.
– Сдается мне, Нинок, забыли мы воду на зиму спустить. Кран-то я перекрыл, а воду из системы ты не спустила – не проследил.
– Не помню.
И они увидели свой «аргоси» сквозь голые ветви. Дюралевый, в сиротских подтеках, самолетик без крыл. Повозившись с замком, отворил дверцу. Ореховая скорлупа на столе да лакированный желудь на память от белочки.
Бросился подключать воду. Трейлер тек, как дырявая кастрюля.
– Ну как, надавать тебе п…дюлей, Нинок, шалобанами, оплеухами, нажатием на болевые точки?
– Поцелуями, сладкий ты мой, поцелуями.
И она вся так и припала к нему. Такая худенькая, что, казалось, ее нет совсем. Они долго так стояли, пока на покатую гору не легла полная луна. От Делавера поднималось облако тумана в виде джинна в чалме. Потом из освещенного квадрата соседнего трейлера с хохотом высыпали дети с бенгальскими огнями и стали плясать, рассыпая цветные искры внутри туманного джинна.
Тогда, год назад, они пытались отыскать тишину на campsg rounds – территории лагерей вдоль семнадцатой дороги. Но везде река Делавер была заслонена трейлерами. У костров вопили пьяные викинги – white trash[33].
Они кружили по Альпам все лето. За трейлер просили двенадцать – пятнадцать тысяч. И вдруг, никак, нипочему, их «нисан-альтима» свернул в Долину Покоя и замер у дюралевых тронов, на которых восседали супруги Банк. И в самом деле, это нельзя было назвать сделкой. Тут было явное вмешательство Провидения. Супруги встали и покачумали к офису. Две подбитые птицы. Только один клонился влево, другая вправо. Старик встал к конторке и молча двинул большим пальцем за правое плечо. Там, за окном, стоял Он. Анфас «аргоси» походил на Горбачева. Лобастенький, с географическим ржавым пятном на лбу. В профиль напоминал пузатенький бескрылый самолет.
– How mutch[34]?
– Achrehn hundert[35].
Сквозь их английский явно проступал Deutsch.
Не успели выписать чек, как явился переросток-херувим, весь в пшеничных кудряшках, цепочках, брелочках, с золотым колечком в крылышке носа. Подцепил трейлерок грузовичком, потащил по пыльному грейдеру на предназначенный им лужок. Горбачев при этом трогательно подпрыгивал. Денис, так звали херувима, развернул, отцепил, раз-два-три. Подключил воду, электричество, канализацию. Отчалил, махнул рукой.
И вот внутри завозилась чистюля Нинок, зазвенела тазиком, заплескала водой.
– А ты, Нюнюшкин, – ласково приказала Нинок, – п…дани-ка на часок вон тот симпатичный шланг с того роскошного трейлера.
И не успела договорить, как запела по дюралю мощная струя, полезла короста с обласканного Горбачева.
Они обмыли его, как ребенка, щелкнули выключателями, и трейлерок засветился огоньками, басовито пропела вытяжка, зашептал кондиционер, в потаенном приемнике под потолком ударили по банджо хилл-билли[36].
То был персональный вагон железнодорожного министра, квартира на колесах: гостиная с мягкими диванами, кухня с газом и холодильником, спальня и даже ванная с душем.
– Подумать только, всего за восемнадцать сотен. Такое возможно только в очень богатой стране, где ценятся не вещи, а идеи. Это нам подарок от Бога.
– Сколько раз тебе говорила: не загадывай, не загадывай, – решительно прервала Нинок и постучала костяшкой по дюралевой двери. – Надо по дереву стучать, а здесь пластмасса. Оттого все время непруха.
В трейлере были переносная электробатарея водяного отопления, набор электролампочек, запасы кофе и соли, а также подробная карта охотничьих угодий округи. По всему было видно, владелец трейлера был человек капитальный, хозяйственный, вдумчивый.
– Какая, однако, краса, я бы каждый листочек перецеловала, каждую птичку.
Самодовольные местные птицы глядели свысока, даже когда прогуливались по газонам. Они нагло подходили почти вплотную, красно-синие, зеленоперые. Один величавый BIRD – Птиц в золотых эполетах, при шпаге, нахально заглянул в дверь. На едва освещенном восточном склоне – бубенчики, колокольчики, ксилофон. Птичья сюита горы. В грифельной жаркой ночи пронес невидимый мастер шарик магмы на стеклодувной трубке – первый светляк. Чиркнул по лугу, роще, горе, над которой меж звезд протащил самолет прерывистый робкий фонарик.