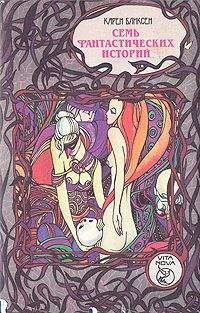«История Тимона Ассенского».[55]
Если вы бывали в Копенгагене, вы могли обо мне слышать, — начал молодой человек, — потому что одно время там обо мне много говорили. Мне даже дали прозвище — Тимон Ассенский. И по праву, поскольку я происходил из Ассен, портового городка на острове Фюн — может быть, слышали? Я родился у почтенных родителей, шкипера Клемента Мэрска и жены его Магдалены, принесшей в приданое милый домик и сад.
Вам, быть может, странно покажется, — а сам я не имею достаточно опыта, чтобы верно об этом судить, — но все то время, покуда я жил в Ассенах, мне и в голову не приходило, что со мной может приключиться неладное. Я, собственно, думал, что никто и не станет мной заниматься. Мне, напротив, казалось, что сам я обязан за всем присмотреть. Отец ходил в море, летом много раз брал меня с собой в Португалию, Грецию. В море надо присматривать за снастями и грузом, и эта работа нам пред-ставлялась самой важной на свете.
Моя мать была женщина очаровательная. Хоть одно время я вращался в самом высшем свете, я не встречал равных ей красотою и обхождением. Но общества шкиперских жен она избегала и никогда не ходила к ним в гости. Отец ее был помощником у знаменитого ботаника Линнея,[56] и для нее цветы, их рост, пчелы, их труд и соты, были, кажется, важней всех дел человеческих. Пока я был с нею, я думал, что деревья, цветы, насекомые — главные в мире, а люди на то и созданы, чтоб рассматривать их.
В нашем саду в Ассенах нас с матушкой окружало то, что, я думаю, и зовется идиллией. Дни наши протекали в невинных радостях.
Фрекен Малин, внимательно его слушавшая, ибо была большая охотница до разных историй, тут со вздохом перебила рассказчика.
Ах, — сказала она. — Знаю я эти идиллии. Mais moi je n'aime pas les plaisirs innocents.[57]
В Ассенах был у меня друг, или так мне, по крайней мере, казалось, — продолжал Йонатан, — одаренный юноша, пасторский сын, по имени Расмус Петерсен, на несколько лет меня старше и на голову выше. Он и сам готовил себя в священники, но из-за какой-то неприятной истории не мог сдать экзамена. Однако студентом, в Копенгагене, он репетировал во многих знатных домах. Он всегда был ко мне чрезвычайно расположен, а я, восхищаясь им, чувствовал себя неловко в его обществе. Он был остер, остер, как бритва, того гляди, об него порежешься и сам не заметишь. Когда мне было шестнадцать лет, он явился к моему отцу и упросил отпустить меня в столицу поучиться у людей образованных, ибо у меня, мол, выдающиеся способности.
А у вас были выдающиеся способности? — спросила фрекен Малин с удивлением.
Ах нет, ну что вы, ваша милость, — отвечал Ионатан. — Первое время в Копенгагене, — продолжал он, — я чувствовал себя одиноко, потому что мне не к чему было себя приложить. Кругом ничего, только люди, да, люди, а им было не до меня. Поговорят со мной и тотчас же повернут спину. Но потом интерес мой привлекли дорогие теплицы и оранжереи в королевском дворце и в замках важных вельмож. Из них особенно славились оранжереи барона Йохаима фон Герсдорфа. Он был гофмейстер датского двора и сам великий ботаник, объездил всю Европу, Индию, Азию, Африку и Америку и повсюду собирал редкостные растения.
Случалось ли вам слышать об этом человеке, или, может быть, вы его знаете? Родом он был из России, и богатство его не имело равных во всей Дании. Он был поэт, музыкант, дипломат и даже тогда, стариком, соблазнитель женщин.
Но не этим он прежде всего впечатлял. Нет, тут было другое. Он был законодатель моды. То была его истинная суть. Вернее, мода сама, во всяком случае в Копенгагене, пресмыкалась у ног барона Герсдорфа. Что бы ни сделал он — тотчас полагалось делать всем остальным. Все наперебой ему подражали. Ах, да к чему тут его описывать. Сами знаете, что такое законодатель моды. Уж я это постиг. Законодатель моды — этим все сказано.
Я побывал в его оранжереях, к которым Расмус добился для меня доступа, несколько раз, прежде чем застал там барона. Расмус меня представил, он милостиво меня приветствовал и тотчас вызвался показать свои владения, что и сделал с великим терпением и доброжелательством. С того дня я почти всегда его заставал. Он поручил мне составить каталог его собрания кактусов. Много дней провели мы вместе в жаркой теплице. Я был счастлив: он так много путешествовал по свету, мог так много порассказать о чужеземных цветах и насекомых. Иногда я замечал, что слова мои странно его волновали и он с большим вниманием меня разглядывал. Однажды, когда я читал ему трактат о чашечке околоцветника бразильского кактуса, я заметил, что он закрыл глаза. Он взял мою руку и долго ее удерживал, а когда я кончил читать, он взглянул на меня и сказал: «Чем же я награжу тебя, Ионатан, за твое открытие?» Я засмеялся и сказал, что покуда ничего замечательного не открыл. «О Боже! Открытие лета 1815 года!» Вскоре после того он начал со мной говорить о моем голосе. Сказал, что у меня на редкость красивый и чистый голос, и предложил переговорить с самим мосье Дюпуа, чтоб тот давал мне уроки пения.
А у вас и вправду был хороший голос? — спросила Фрекен Малин с некоторым сомнением, ибо голос у рассказчика был хриплый и грубый.
Да, ваша милость, в те поры у меня был очень славный голос, и матушка меня научила петь.
Ах, — сказала фрекен Малин. — Ничего нет на свете прелестней мальчишеского прелестного голоса. Когда я была в Риме, там в капелле был один мальчик по имени Марио, так у него голос был прямо ангельский. Сам Папа меня послал его слушать, и уж я-то знаю, почему — он надеялся обратить меня в католичество и думал, что перед этим дивным ангельским голосом я не устою. Со своей скамьи я видела, как сам Папа ударился в слезы, когда, как леведь подымает крыло, этот Марио поднял свой голос и в бессмертном речитативе Кариссими:[58] «Прочь, прочь, Сатана!» Ах, милый Пий VIII! Через три дня его так гнусно свели в могилу с помощью шпанской мушки! Я не поклонница католичества, но этот Папа, скажу я вам, всегда великолепно выглядел и умер, как мужчина. Стало быть, вы брали эти уроки и сделались виртуозом, господин Йонатан?
Да, ваша милость, — сказал Йонатан с улыбкой. — Я брал эти уроки. И, будучи предан музыке, я упорно трудился и сделал значительные успехи. К началу второй зимы барон, который к тому времени, кажется, уже вовсе не мог без меня обойтись, возил меня из дворца во дворец, и там я пел его друзьям. Когда я только приехал в Копенгаген, часто стоял я перед дворцами в зимние вечера, смотрел, как сияли огни и цветы на подъездах, как юные красавицы выпархивали из карет. А теперь я всюду был вхож, и дамы, старые и молодые, ласкали меня, будто я был их сыном или младшим братом. Я пел при дворе королю Фредерику и королеве Марии, и королева милостиво мне улыбалась. Я был совершенно счастлив. Я думал: «Как ошибаются те, кто считает, будто знатные люди только идумают о богатстве и почестях. Все эти дамы и господа любят музыку не меньше моего — да нет, больше даже, они все для нее забывают. А какое это высокое чувство — любовь к прекрасному».
А случалось вам влюбляться? — спросила фрекен Малин.
Да я, собственно, в них во всех был влюблен, — сказал Йонатан. — Они со слезами на глазах слушали мое пение. Они мне аккомпанировали на арфе, они пели со мною в дуэтах. Они вынимали цветы из великолепных своих причесок и мне их дарили. Но, возможно, я был влюблен в Аталанту Даннескьёл, младшую из сестер Даннескьёл — девяти леведей Северного моря, как их называли. Мать ее отвела нам в шараде роли Орфея и Эвридики. Вся зима промелькнула как сон. Вот вам — снилось вам когда-нибудь, что вы можете взять любую ноту, порхая по клавиатуре вверх-вниз, как ангелы по лестнице Иакова? Мне и посейчас иногда это снится.
Но к весне со мной случилось то, что я, не зная еще, что такое беда, счел ужасной бедою. Я заболел, и, когда я выздоравливал, придворный лекарь, который меня пользовал, объявил мне, что я потерял голос и уж мне его не вернуть. Прикованный к постели, я горько тосковал не только из-за самой этой потери голоса, сколько от мыслей о том, как я разочарую, может быть, и потеряю друзей и как печально отныне сложится моя участь. Случалось мне и всплакнуть, и в такую минуту застал меня однажды Расмус Петерсен. Я открыл ему мое сердце, ожидая, что он-то мне посочувствует. Ему пришлось подняться со стула и прикинуться, будто он смотрит в окно, чтобы скрыть свою веселость. Я счел это вессердечием и умолк. «Послушай-ка, Йонатан, — сказал он. — У меня есть все основания веселиться — я выиграл пари. Я бился об заклад, что ты именно тот простак, каким кажешься, а никто не хотел мне верить. Тебя считают пройдохой. От потери голоса для тебя решительно ничего не меняется.» Я его не понял. Должно быть, я побледнел, хотя слова его ободрили меня. «Знай же, — продолжал он, — барон Герсдорф — твой отец. Я догадался об этом еще до того, как отвел тебя к нему в теплицу, увидев его детский портрет: те же, в точности, ангельские черты. Когда он узнал это, он был в таком восторге, в каком я никогда еще его не видел. Он сказал: „У меня в жизни не было детей. Чувство отцовства ново для меня и восхитительно. Я готов поверить, что мальчик — действительно моя кровь и плоть, и он об этом не пожалеет. Но если я увижу, что и душа моя в нем пребудет, Господь мне свидетель, я его узаконю и оставлю ему все мое достояние. Если мне не удастся сделать его бароном Герсдорфом, я произведу его в рыцари Мальтийского ордена и дам ему имя De Ressurection“.[59]