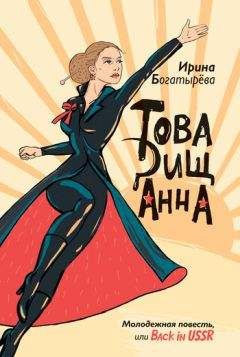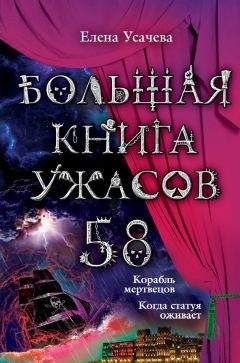Утром у кого-то из верхних детей случился день рождения. Маха слышала, как там визжали и хлопали в ладоши, а потом увидела целый табун увешанных воздушными шариками упитанных улыбчивых мордочек с черными волосами и глазами; малышня выкатилась из-за угла дома и попрыгала в стоящую под окном «газель». Глава семьи завел машину, и они все укатили.
Маха продолжала отвечать на письма, но без особого интереса. Кому-то почти нагрубила. Зашла на несколько форумов, где часто обитал Макс, почитала треп профессионалов на темы и без, ушла с форума и нажарила себе картошки. Стала есть со сковородки, держа ручку черно-масленым полотенцем и уставившись в окно. На улице дул ветер, с дворовых деревьев сдирало последнюю желтизну, за фонарь выше окна зацепился и одиноко шуршал черный полиэтиленовый пакет. Хоть бы он кошку, что ли, завел, подумала Маха. Она поняла, что совершенно не хочет заниматься письмами, пошла и замочила белье.
В этот день что-то было не так, а что – она не понимала. Как будто остановилось время. Как будто бы совсем недавно все смотрели сюда, в эту квартиру, лезли в ящик со своими письмами и заказами, жаждали советов – и вдруг исчезли. Нет их, а если есть, то совсем мало. Время остановилось, стало липким, как пальцы, которые размяли апельсин. И чего-то не было. Маха пошла стирать и вспомнила, что сегодня суббота.
Вот почему она не пишет, осенило вдруг. Суббота – выходной, а у нее Интернет на работе. Блин, как все просто…
Она легко перестирала все и перечистила. Вернулась к компу и ответила на пару пришедших писем. Увидела в окне, как высыпали из «газели» черноволосые дети в колпаках и бумажной мишуре, с пакетами из Макдональдса и игрушками-мутантами в руках, еще более круглые и улыбчивые, чем обычно. Скоро потолок начал подрагивать от музыки и ора.
Напишу ей сама, решила Маха. А то вдруг она обиделась, что я так скупо ответил.
Ей хотелось написать, какая за окном осень и как тоскливо шуршит пакет на фонарном столбе. Как по ночам ей кажется, что капли воды из кухонного крана выстукивают ритм стародавнего джазового хита. Как быстро весь мир забыл, что она существует, и позволил ей пропасть. Но надо было писать про Макса… а что Макс? Она же его совсем не знает. Видит ли он черно-желтую осень, слышит ли джаз в раковине, ждет ли звонков от своих друзей? Да и есть ли друзья у него, у Макса?
– Черт побери, да он просто замкнутый себялюб! Никого у него нет, и он сам никого знать не хочет! Снобизм чистой воды, вот это как называется. Дворянская кость, голубая кровь… интеллигенция, блин! Да он просто боится этой жизни, потому ни с кем не общается. Что он может ответить этой девочке? Что он может ей дать, кроме банальных советов за жизнь?! Да она же просто-напросто любит его, козла, а он этого, поди, и не замечает!
Она замолчала и застучала по клавиатуре. Она хотела ответить так, как, думалось ей, будет приятно читать девочке из провинции. Поэтому она стала писать, что Макс все время вспоминает, как они общались с ней; что он даже думает, они еще смогут встретиться – кто знает; что в этом мире не бывает такого, что проходило бы бесследно, и если осталась хоть капля тепла в этой промозглой осени…
Она написала это, перечитала, плюнула и удалила. Ей совсем не хотелось делать из Макса слюнявого дурака. К тому же она не знала, встречались ли эти двое друг с другом когда-нибудь. И вообще, она могла бы испортить Максу жизнь подобным письмом: вдруг бы эта Надя, расчувствовавшись, взяла бы да и приехала к нему сюда, с вещами… От этой мысли Махе стало смешно: если она захочет Максу насолить, обязательно сделает что-то подобное.
Она задумалась снова и вдруг написала:
«Если бы раньше мне сказали, что я буду там, где я теперь, буду заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, и знать то, что я знаю сейчас, – если бы мне сказали все это раньше, мне стало бы очень смешно. Но теперь я знаю, что смеяться лучше после. Научиться видеть привычное по-новому, научиться относиться отстраненно к людям, которых знаешь давно, видеть их самих, а не свое сложившееся годами к ним отношение – это только первый шаг к тому, чтобы начать меняться. Рано или поздно судьба поставит тебя в такое положение, когда увидишь мир чужими глазами. Тогда хочешь не хочешь, а начнешь смотреть на все иначе. И что ты увидишь? Не исключено, что увидишь даже себя, какой ты есть там, вне этого человека, глаза которого на тебя смотрят. Дай бог тебе тогда не свихнуться от того, что увидишь».
Маха перечитала письмо – и не смогла понять, о чем оно. Она даже не смогла понять, кто это писал – она или Макс. Это было похоже на его манеру говорить, но по какому поводу, она не знала. Перечитав снова и снова, она решила, что в письме нельзя ничего ни прибавить, ни отнять, и отправила его Наде.
3
Когда они с Максом познакомились, была такая же осень. Она оказалась со своей институтской группой в новом доме отдыха под Москвой. Они тогда были на втором курсе, и их неожиданно сняли с занятий на неделю и отправили туда досрочно отрабатывать летнюю практику: они должны были расписывать свежевыкрашенные стены. Они были молодыми архитекторами, и им поручили даже разработать свое оформление для всех помещений. Позже выяснилось, что хозяин базы – какой-то родственник деканши, студенты были бесплатной рабсилой, но им тогда это было неважно, все с восторгом принялись за проект. Посетителей не было, в номерах для гостей шел ремонт, они жили в комнатах для персонала – узких двухместках с белыми стенами.
Макс тоже был там. Владельцы дома отдыха пригласили его в качестве фотографа. Он ходил с двумя камерами – цифровой и пленочной. На цифровую снимал в здании, в том числе измазанных в краске студенток на стремянках. Как он объяснил – для Интернета. На пленку шли виды вокруг – лес и скучная коричневая речка. Для рамки, как сказал он.
Макс не держался особняком, но и не лез к студентам. Он относился к ним как к коллегам, любил обсуждать цветовые гаммы и орнамент, но не приходил на их вечерние гитарные посиделки. В итоге девчонки признали его кем-то вроде вожатого в пионерском лагере: подбрасывали анонимные стихи на клетчатых бумажках, приносили под дверь его комнаты букеты кленовых листьев и грустных последних астр, зазывали к себе после ужина и просили рассказать что-нибудь интересное «на ночь», шептались о нем и сочиняли сплетни.
Маха с напарницей очень долго рисовали белые античные колонны по лазурному фону в спортивном зале. Зал находился в дальнем корпусе, и поэтому она почти не была знакома с Максом. Видела его в столовой, но до их корпуса он так и не дошел со своей цифровухой, а встречаться после смены с ним не приходилось. Да ей и не хотелось: все свободное время она старалась проводить вдали от пропахших растворителем стен, гуляла вокруг здания, ходила в лес.
Так она пошла туда однажды и заблудилась. Лес был хилый, и ей казалось, что заблудиться в нем может только слепой: две грунтовые дороги с размытыми колеями пересекали его; куча троп, поменьше и побольше, вели к перекрестку. Одна из дорог выходила на асфальт – до ближайшей деревни. Другая – в поле. В таком лесу прятаться негде, не то что теряться. Маха за пару дней успела обежать его весь по этим тропкам и дорожкам, выйти во все возможные стороны – и всегда возвращалась в дом отдыха до темноты.
Но ее соблазнил мох между деревьев, и она ушла с тропы. Мох был плотным, упругим. Нога уходила при каждом шаге во влажную темноту, которая пропадала, как только убираешь ногу, и в этом было что-то захватывающее, первобытное, чему Маха не могла сопротивляться и шла по мху, или плыла во мхе, глядя только в появляющуюся темноту своего следа и на то, как мох потом ее сглатывает.
Были сумерки, когда она поняла, что не знает, куда идет. Прошла немного вперед, думая, что просвет между деревьев – тропа или одна из грунтовок. Но там опять был мох. Тогда прошла назад. Ничего не менялось. Мох был все такой же манящий, как миллионы лет назад.
Махе всегда казалось, что заблудиться в лесу невозможно. Так хорошо она себя чувствовала между деревьев, так, казалось ей, хорошо чувствовала каждое дерево. И ни капли они не одинаковые, все разные. Как можно запутаться в них? А тут – запуталась. Оглядывалась и не видела выхода. Всматривалась в мох – и не видела своих следов. Он давно сожрал все следы, этот первобытный мох. Деревья стали сплошным серым фоном. Как говорится в таких случаях, стемнело быстро. Это слишком красиво так говорится…
Маха поняла, что не может даже закричать, такая тишина вокруг. Не может по-настоящему испугаться, чтобы по-настоящему захотеть себя спасать. Слишком все казалось ей сказочным – и лес, и мох, и то, что она тут одна, и даже то, что искать-то ее не будут, это она знала: в комнате ей посчастливилось жить одной, близких подруг в группе не было, из-за своей нелюдимости она никому никогда не говорила, что ходит в лес.
Это то, что я сама себе выбрала, думала Маха, чувствуя, что от сумерек странно слепнет. То, что я сама себе всю жизнь выбираю.