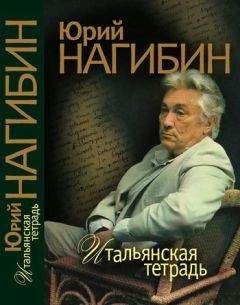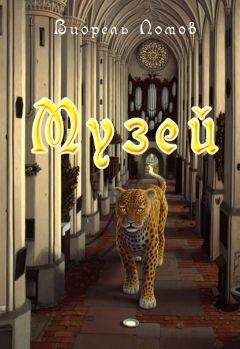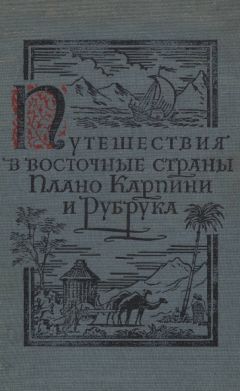Сейчас, когда минул переходный от дня к вечеру смутный сумеречный час и темнота на улице стала чистой и плотной, глаза Баха обрели большую чувствительность к свету. Четко обрисовался в окне прежде размытый силуэт Швальбе, а малый костерок трубки, раздуваемый толстыми губами, багряно-ярко высвечивал крупное лицо, выигравшее от возбуждения в резкой выразительности. Оно словно подсушилось, навострилось, округлости стали углами, складки кожи обернулись глубокими шрамами дуэлей и битв, а глаза в глубоких впадинах глазниц метались, словно летучие мыши. Дьявол! – вспыхнуло в мозгу. Можно ли принимать помощь нечистого? Но уж если дьявол решился на столь богоугодное дело, как распространение духовной музыки, значит, зашатался ад, значит, некими высшими силами он, Бах, избран для обращения князя тьмы. И зачем же противиться тому, что определено там?..
– Я не нахожу слов, чтобы выразить ту глубочайшую благодарность... – начал Бах, но собеседник живо перебил его:
– Меня не за что благодарить, любезный Бах! Я просто наметил возможность. Постарался дать понять, что все далеко не так безнадежно, как вам кажется, мой дорогой композитор! Совсем не безнадежно!..
Баху почудилось, что в голосе господина Швальбе прозвенели слезы. Да нет же, быть не может, вряд ли синдик вообще знает, что такое слезы. И с какой стати ему плакать?.. Бах ошибался: то действительно были слезы – короткий, мгновенно подавленный, зажатый в гортани взрыд. Господин Швальбе, пытаясь отпереться от своего, ему самому непонятного порыва, вдруг обнаружил, что вопреки намерениям и воле подтверждает опрометчивое обещание взять на себя издание сочинений Баха. Значит, в глубине души решение принято: взвалить на себя докучный и ненужный груз, швырнуть кошке под хвост громадные деньги. Сколько же это будет стоить? – растерянно спрашивал себя Швальбе, потрясенный собственной расточительностью. И тут кто-то, маленький и жалкий, беспомощно всхлипнул у него внутри.
– Прощайте, дорогой господин Бах! – вскричал синдик, совсем теряя себя. – И да благословит вас Бог!..
Окно захлопнулось, прозвенев стеклами. Бах еще постоял, понурив тяжелую голову, затем двинулся к дому. Не сделав и десятка шагов, он вдруг обнаружил, что жестом слепца ощупывает мостовую толстой ясеневой палкой. Он встряхнулся, вырвался из западни странных, новых, ошеломляюще радостных и тягостных до боли в груди мыслей, разбуженных Швальбе, и, вскинув палку на плечо, бодро зашагал к дому, полагаясь на спрятанный внутри звуковой компас.
Анна Магдалена велела ему разуться в прихожей, снять забрызганные грязью чулки, надеть толстые шерстяные носки и теплые домашние туфли. Она приготовила ему питье из сухих вишен с каплей спирта, сахаром и корицей, придвинула кресло к камину, сама уселась на низенькую скамеечку у ног мужа и приготовилась слушать. Согретый и ублаготворенный, Бах стал рассказывать жене о приезжем органисте, о мастеровитой и равнодушной, усталой игре его, распространился о качествах небольшого, но полнозвучного органа, преодолевающего скверную акустику убогой Петерскирхе, и несказанно удивился, когда Анна Магдалена перебила его чуть ли не с раздражением:
– Ну хватит о пустяках! Что случилось?
– Как «что случилось»? – опешил Бах, намеревавшийся ничего не говорить жене о встрече с синдиком, дабы не волновать ее понапрасну. – Что могло со мной случиться за такое короткое время?
– Вот об этом я и хотела бы знать! – решительно заявила маленькая женщина.
Анна Магдалена была умна и наблюдательна, но то, что она обнаружила сейчас, выходило за пределы обычной человеческой наблюдательности.
– Я не понимаю... – пробормотал сбитый с толку Бах.
– Милый муж, посмотрел бы ты на себя, когда вошел в дом. Лицо красное, словно выпил полбочонка рейнского, глаза блуждают, губы шевелятся. Если хочешь что-то скрыть от меня, следи за своим лицом.
– Да нечего мне скрывать! – В облегчении, что все так просто объяснилось, Бах тут же поведал жене о встрече с господином Швальбе.
– Уму непостижимо! – задумчиво произнесла Анна Магдалена. – Надеюсь, ты не относишься серьезно к этим посулам?
– Но почему? Ведь никто не тянул его за язык.
– Я не люблю господина Швальбе и не верю ему. Боже тебя сохрани придавать хоть какое-либо значение его сладким речам. Он надежен лишь в недоброхотстве.
– Почему тебе так хочется испортить мне радость? – печально спросил Бах.
– Ах, господи, Себастьян! Неужели ты и впрямь обрадовался? Старый ребенок! Да этот скупердяй тысячу раз подумает, прежде чем расщедрится на один талер. Не связывай с ним надежд, побереги сердце. Может быть, ты издашь свои опусы, но только не с помощью этого оборотня.
– Наверное, ты права, – вздохнул Бах.
Но он не поверил жене, он верил синдику Швальбе.
...А Швальбе провел скверную ночь. Он никак не мог уснуть, раздираемый противоречивыми видениями. В одном ему зрились красивые переплеты, на которых крупно, золотом, изящно-мощной готической вязью значилось: издано на средства синдика Ганса Швальбе. Переплетов – неисчислимое множество, и на каждом сияет имя лейпцигского мецената. Об руку с Иоганном Себастьяном взлетал он в бессмертие, шелестя страницами нот, словно перышками ангельских крыльев. В отдаленном будущем, куда проникал он жадным взором, его поступок отливал дивными красками бескорыстия, благородства, королевской щедрости, редкостного прозрения, но все разом менялось, когда он возвращался в настоящее. Мечта тускнела, блекла, гасла, чадя, как грошовая свечка. В тоске и унынии он видел, что нотная несметь не продается. Золотое тиснение на переплетах осыпается, страницы желтеют, шрифт блекнет. Человечеству нет дела до божественных озарений то ли запозднившегося с приходом, то ли явившегося слишком рано великого чудака. Впрочем, человечество – миф, лучше говорить просто – рынок. В конечном счете все на этом свете сводится к купле-продаже. Есть ремесленник, есть торговец, есть покупатели. В данном случае Бах делает музыку, Швальбе берется ее продать, а покупателям нужен совсем иной товар. Не кантата, а опера, не созерцание, а действие, не мысль, а чувство. Конечно, у Баха – громадное, будто застывшее в изумлении перед самим собой, чувство, но кто это понимает, кроме сумасшедшего расточителя, готового отдать нажитые потом и кровью деньги на заведомо не идущий товар. Конечно, он не разорится, но кто знает, во что станет фаянсовый завод и не окажутся ли поблизости от уже приобретенной пустоши иные земли, богатые каолином? Тогда ему дорог будет каждый талер. Не надо лицемерить с самим собой, денег у него хватит, но есть другое: провалившись с изданием, он будет смешон в глазах коммерсантов, ибо никто не поверит в его бескорыстие и все решат: Швальбе дурак, растяпа, простак, мечтатель, с ним нельзя вести дела. Бесконечно трудно создать себе репутацию в деловом мире, но еще труднее восстановить пошатнувшуюся репутацию. А это непременно случится, если он сунется в издательское болото.
А если не ставить своей фамилии на переплете? Ну, это несерьезно. Люди прекрасно знают, что у Баха нет денег, и, конечно, легко докопаются, откуда они взялись. К тому же, уйдя в тень, он не сможет вести переговоров с издателями и продавцами нот, а Бах при его непрактичности окончательно все погубит.
И все-таки жаль расставаться с красивым и неизведанным прежде чувством, вознесшим душу к небесам, столь щедрым к нему все последние годы. Порой ему казалось, что одной лишь усердной молитвы мало, нужен поступок, дабы отблагодарить небо. (А что, если не горний мир, а преисподняя твой покровитель? – змейкой шевельнулась мыслишка.) Интересно, зачитывается ли неосуществленное доброе намерение? Быть не может, чтобы оно пропадало впустую, особенно такое светлое, возвышенное и богоугодное, как издание музыки Баха, славящей престол Господень. И как-никак он пробудил в Бахе ответственность перед собственным гением и беспокойство за судьбу своих сочинений, о чем тот вовсе забывал в житейской замороченности. Нет, конечно же такое должно учитываться в небесном реестре и оплачиваться хоть бы по самой низкой таксе. И пусть хоть на грошик медный перепадет ему от Вседержителя в воздаяние за благородный порыв, он будет счастлив и малым знаком Божьей милости. Но ведь недаром говорят, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена.
Синдик Швальбе ворочался с боку на бок, взбивал подушку, то натягивал, то сбрасывал одеяло, но сон не шел, и все попытки изобретательной Марихен отвлечь его от тягостных мыслей не приносили успеха.
Среди ночи он услышал знакомый грохот в столовой, звон стекла, падение стула, но, кажется, впервые не отозвался сладостной музыке, а утром едва глянул на излучавшего фиолетовое сияние дохлого пасюка.
Желая избежать встречи с Бахом – а Швальбе был уверен, что композитор не замедлит явиться, – он быстро собрался и укатил на свою пустошь, откуда подался в Дрезден. Намаявшись в неуютных гостиницах, испортив желудок, он вернулся в Лейпциг преисполненный к кантору церкви Св. Фомы чувств, весьма близких ненависти.