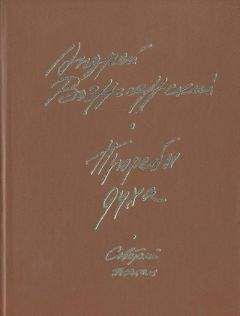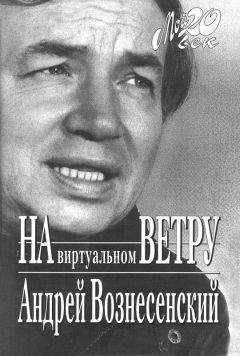Тут вы чувствуете, как свет будто отключается от вас. Иной огонь загорается в Павлове. Его мозг, наверное, уже мастерит не то беседку-консерваторию для соловьев, не то лежбище для лосей из рваного камня, не то волчье логово-кемпинг.
Он уже машинально берет медный пропорциональный циркуль золотого сечения.
Природа вся задумана в золоте. В золотом сечении убывают расстояния между ветками деревьев. Венец создания создан тоже в убывающей пропорции. Когда-то Лe Корбюзье нарисовал на салфетке и подарил мне фигуру обезьяны в золотом сечении — свой основной принцип человечности. Продолжив ряд, он высчитал высоту жилья для среднего человека — два метра сорок сантиметров. Грубо говоря, это человек с поднятой рукой.
Человек-совесть спорит с механической теорией Ле Корбюзье. Он показывает мне руку свою:
— Видите, фаланги пальцев уменьшаются в золотом сечении, но если мы продолжим ряд на одно звено, то получим над рукой расстояние точно такое же, на котором слепцы чувствуют предметы. Это золотой энергический ореол человека.
Это не помещается в потолок Ле Корбюзье. Отсюда гнетущее ощущение, что потолки давят. Павлов видит золотой ореол. По его расчетам, высота должна быть два девяносто пять.
Выпьем за золото! Павлов — великий бражник. Он наливает из графина водку, настоянную на крупинках сусального золота. Я чувствую, как мои глотка и кишки покрываются горячей позолотой, как труба Армстронга.
Меня подмывает рассказать ему про проект золотого Облака, но никакие поддачи и пытки не развяжут мне язык. Это только мое. «Ни матери, ни другу, ни жене».
Но Павлов будто уже все знает. Он спокойно невзначай говорит:
— Вполне реальная идея — поставить архитектурный объем на воздушную подушку. Только надо разработать направление поддува. Держит же водяная пыль фонтана стеклянные шары. Ну а материал, думаю, все-таки медь. Медь как-то державнее. Хотя спрессованный свет реальнее и дешевле.
Рука мастера держит петровскую чашу. Отнюдь не страсть, не искушение толстовского о. Сергия, а сорок второй военный год отхватил фалангу его большого пальца, поэтому он не может больше играть на фортепиано любимого Прокофьева. Он проектирует здание около консерватории в виде клавиш — пусть играют облака и деревья.
Я гляжу на загорелую руку Павлова со светлыми выгоревшими волосками — золотую десницу великого творца.
Надоели бессовестные оптимисты-болтуны, надоело бесплодное брюзжание, оправдывающее свою творческую несостоятельность лозунгом: «А разве разрешат?» Я за породу творцов, ценой жизни — а другой цены не бывает — воплощающих свою идею. Совестливо закатывать глазки и ничего не делать — бессовестно. Сделайте хоть что-нибудь.
Павлов лается с прорабами, покоряет идеей в наше трудное время, а когда были легкие времена? Рукописи не горят — горят авторы. Даже если он не побеждает — он победил. Он сотворил. Творец — это совесть.
Смущенный и потрясенный, я внимаю ему. Несмотря на муку и стыд, душа моя, как тело, изломанное в турецких банях, ощущает некое обновленное просветление.
Внезапно Павлов сталкивает меня в воду.
Окунаюсь «с ручками»!
Я бухаюсь во всем, в чем был в брюках, в тяжких ботинках. Брюки облипают холодом тело, стесняют движение. В уши забивается вода печали и недоумения. Карманы набиты тугой водой.
Рядом, фыркая, плывет Павлов. Он плывет саженками. Он столкнул меня в идею своего водного театра. Облипающая его полотняная рубаха, намокнув, стала прозрачной, и к его плечам и телу, как татуировка, прилипли темные подковки рисунка ткани.
— Идея на двенадцать тысяч мест! — кричит он, подплывая. — Строится сейчас в Измайлове Театр фигурного плавания.
Вода пахнет не хлоркой, она пахнет горечью и разлукой. Вот так, в облипших брюках мы купались с тобой прошлым летом. Сухими оставались только медные пуговицы. Ты подплываешь «Эй, в серых брюках, ноги, ноги отрабатывайте!» — в мегафон орет похожий на полуголого Пикассо тренер с другого берега.
Павлов уже освоился в воде. Он плывет как на матрасе, на своем плотном сиянии. Его волосы уже просохли, стали рассыпчатыми и пушистыми Подсинивает он их, что ли?
— Театр плавания — новая идея. Дитя спорта и искусства. Муза для миллионов. Примерно то что вы сейчас пытаетесь делать с Паулсом. Сквозь окна в брюхе бассейна зрители могут видеть действо снизу. Если вы ныряете, то видите зрительские лица.
Я ныряю. В зеленом свете я вижу на стенах лица под стеклом, как цветные фото на стенах, — я вижу Мурку, тебя, Пикассо, Рябинкина, Яроша, все они наблюдают за нашими жизнями. Дыхания не хватает — выныриваю.
Помню, в Лионе во время постановки «Макбета» сцена постепенно заполнялась водой. Уровень воды подымается с уровнем преступлений. Последнее действие герои играли под подбородок в крови.
В заключение воды Вечности смыкались над нами, только маленький пузырек чьего-то дыхания всплывал, как крохотное «о», размером с игольное ушко.
Мы плывем в водах истории и разлуки, Павлов! Спасибо за крещение! Сквозь гигантские сквозные дыры-иллюминаторы под потолком, выходящие на фасад, видны белые облака, ветряные верхушки деревьев и крыши нашей земли. Их относит назад. Мы отплываем, Павлов!
Трибуны начинают заполняться людьми. Хлопают стулья. Я чувствую дыхание, волнение, энергетическое поле судеб. Оно имеет форму гигантской чаши. Чаша дышит.
Это живая форма, самая волшебная из архитектур, мой Павлов! Мы ей принадлежим. Мы в ней растворяемся…
Сквозь волны истории и музыки, захлестывающей нас, проступают полуголые торсы.
Павлов сидит в кресле десятого ряда. Он уже просох совсем. Только под ботинками остались мокрые лужицы. Соседи думают, что это от дождя. В моих ушах, как погремушка, шуршит забвенная вода разлуки.
Павлов пришел на оперу «Юнона» и «Авось». Белые волосы Павлова касаются плеч. Они похожи на парик резановских времен. Его лицо бронзовеет, как державный бюст. Он похож на персонажей действия. Зрители думают, что он подсажен.
— Как прекрасно, что нота торговых связей России и Америки звучит в стенах бывшего Купеческого собрания! — ахает он. И рассказывает, как оформлял «Выстрел» у Мейерхольда, где глубина сцены была всего шесть метров.
Он продолжал рассказывать это домам и вечерним улицам Пушкинской, то есть Страстной, площади, когда мы вышли.
Но странное дело! Чем более колонны, чем выпуклее и оптимистичнее был мир, чем меньше я вспоминаю о тебе, тем явственнее твое присутствие. У меня мелькнула даже догадка, что оно активизируется в присутствии Павлова.
Раньше, когда мы гуляли с тобой, ты вдруг сбегала и пряталась от меня. Я терялся, бегал, звал: «О-о-о», вызывая сочувственные взгляды прохожих. Иногда ты пряталась на фоне ночного неба. У меня затекала шея выглядывать тебя. Твои излюбленные прятки были на фоне Большой Медведицы. Ее звезды тускнели, закрытые тобой, а крайняя, не закрытая тобой, лупила как ни в чем не бывало. «О!»— удивленно вопил я и тыкал в небо пальцем. Ты, заждавшись, спрыгивала ко мне. То-то было радости!
Вот и сейчас. Мы идем с Павловым. Низкое небо полно звезд. Вдруг я замечаю, что Большая, да и Малая, Медведица и три пушкинских фонаря под ними тусклее других. И это не добрая тусклость, а какая-то напряженная, колючая.
Павлов что-то сечет, он смешался, прервался на полуслове и круто свернул к метро. Он шел в сгущающихся сумерках толпы. Набежал московский ветерок.
Павлов уходил на полных парусах своих белых волос.
Однако нам пора продолжать поездку. Усадьба Мура находится в полутора часах от Лондона. Но мы, выступив в лондонском «Раунд-Хаузе» («Круглом театре»), даем круг по всей стране с выступлениями и через озера добираемся до Мура.
О чем я думаю, откинувшись в растущую скорость автомашины и одновременно с нею стремительно нарастающую скорость сумерек?
Сумерки — растворенная черная дыра. Твой взгляд обволакивает меня. Он все сильней и глуше обволакивает происходящее и предметы.
Хочу реабилитировать сумерки. Напрасно ими окрестили эпохи упадка. Люблю сумерки. Это самое волшебное состояние души и суток. Это напряжение духовных сил, ощутимое волнение движения времени, это творческий взлет мысли. Сумерки диктовали лучшие ноты Чайковскому и Блоку.
Может, сейчас сумерки века? Шестидесятые годы были хребтом столетия. Они были высвечены прожекторами, отсветом иных веков, их судьбы были выпуклыми, яркими. Может, сейчас время перехода, ожидания культуры, творческого наращивания?
Проносятся осы фар, удлиненных скоростью. Левостороннее движение сообщает странность мыслям. Проплывает Эдинбургский замок. В студенческие годы я был пленен его необычайной даже для шотландских замков красотой. Гигантская скала незаметно для глаза переходит в стены, контрфорсы, башни, как бы сама кристаллизуясь в них. Это единый комок скульптуры. Я много раз рисовал его, пытаясь разгадать загадку зодчего. Будто гигантская рука смяла сверху скалу как бумажный пакет — и получились вмятые складки замка.