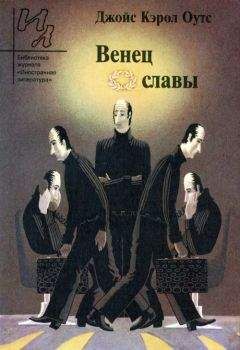Маррей ошеломленно уставился на него. Почти все говорившееся он просто пропустил мимо ушей; но не пропустил слово «прославленный».
Программу свернули внезапно: Хоакиму Майеру надо уезжать. Маррей сознавал, что надо бы что-то еще сказать в защиту поэзии… Ясно одно: ни от Хармона Орбаха, ни от Бобби Саттера попыток спасти ситуацию ждать не приходится… Но момент ускользнул, и Маррей ощутил себя несообразно усталым, уничтоженным и в то же время польщенным… В ушах вновь и вновь это слово — прославленный. Это что же — в самом деле было или только пригрезилось? В такую даль, в этот самый Китимит, в захолустье штата Айова, Хоаким Майер прилетел, чтобы провозгласить перед самозабвенным сборищем восторженных студентов, что Маррей Лихт — прославленный поэт?.. И — гений?
Как жаль, что Розалинда не может это слышать!
Временами ему самому верилось, что он гений или когда-то был таковым; все так, он поэт высокопрофессиональный, умный, хорошего вкуса, владеющий всеми тайнами мастерства… Но прославленный? Он что — все это время был прославленным и даже не догадывался об этом?
Прославленный?
Хоакиму надо было отбывать немедленно: через день его ждал Лондон — пригласили сделать доклад на Теккереевских юбилейных чтениях в Лондонском университете. «Тема та же», — удовлетворяя чье-то любопытство, сообщил он. Довольно тепло пожал руку Маррею. «Недурно, а? Славно побуянили?» Он подмигнул, однако Маррей совершенно не понял его шутки. «Ставлю себе только четыре с минусом: нет той спонтанности, с какой, бывало, проходился на сей предмет, — хохотнул Хоаким. — Зато эта сучка Доминик — молодец! Чуть меня не затмила… Ну, Маррей, мне пора. Жаль, нельзя сейчас пойти вместе выпить, да у тебя небось тоже все расписано, нет? Ведь утром дальше? куда?» Маррей выдавил из себя что-то в ответ. Хоаким вряд ли расслышал: он уже пятился, улыбался, кивал, делал всем ручкой, так, словно и Маррей, и Хармон, и остальные были вроде с Хоакимом заодно, — статисты в фарсовом шоу, и уничтожил он их вовсе не всерьез. Так, в шутку, что ли. Хоаким был в превосходном настроении — победитель! Подошел к вымотанному, смертельно бледному Бобби Саттеру, который ждал его, чтобы везти за сотню миль обратно в аэропорт, и еще раз, как бы расчувствовавшись, взмахнул рукой на прощанье:
— Забавно, правда? Ну, впереди Англия… С утра на свежий луг и в новый лес![23]
Троих поэтов отвезли обратно в гостиницу, за рулем был Брайан Фуллер. По всей видимости, после майеровского доклада намечался прием, но почему-то его отменили. Фуллер уклончиво объяснил, дескать, думали собраться у декана, но его жена что-то плохо себя почувствовала… Потом Фуллер сказал с обидой: «Сам обещал остаться… прием, интервью с „Геральд“… а потом, говорит, забыл. Что ж. Такой большой человек, всемирно прославленный… Конечно, где уж нам…»
Маррей ухватился за слово «прославленный». Весь вечер наперекосяк, а все-таки, помимо собственной воли, он чему-то радовался, и было даже странно наблюдать, как глубоко расстроены Орбах и Анна Доминик. Фуллер остановил машину у подъезда, и они поплелись через вестибюль и по лестнице вверх к своим комнатам; Анна всхлипывала, повторяя, что в жизни у нее не было пакостнее вечера — какое унижение! какое издевательство!.. Ба, да она и в самом деле плачет!
Хармон пригласил их всех к себе.
— Нас завтра тут не будет, и это надо отпраздновать, — сипло буркнул он. — …Кончилась, наконец, эта самая Неделя поэзии.
Хармон был тоже повержен, но оживал. Поразительное дело, до чего быстро этот человек способен меняться: только что, после срыва, на него словно столбняк нашел на нервной почве, а теперь, когда все позади и они предоставлены самим себе, он был уже почти в норме.
Маррей не сразу решился к ним присоединиться: хотел предпринять еще одну попытку дозвониться до Розалинды. Впрочем, в Айове пол-одиннадцатого; в Нью-Йорке уже очень поздно. Пожалуй, будет лучше, куда приличнее будет со звонком подождать до утра… Хоаким Майер ни с того ни с сего назвал меня прославленным!
Решившись, он взял с собой бутылку и нашел обоих в комнате Хармона. Анна, все еще плача, шмыгала носом; выглядела она на много лет старше, чем за обедом: изможденная, подурневшая, а все-таки привлекательная, такая женственная — именно сейчас, у Хармона на краешке кровати… Хармон пытался ее приободрить. Маррей сказал, что на самом-то деле ведь ничего ужасного не случилось. Анна твердила: «Ах, этот свинский выродок! Фашист проклятый… Все мне изгадил!., всем нам! Явился сюда и так все изгадил!» Ну хорошо, допустим, но стоит ли на этом заклиниваться? Хармон выразился в том смысле, что пребывать в депрессии всю ночь просто нелепо. Сам он десятками лет не выходил из депрессии; все! с этим покончено. Маррей налил себе в стакан, сел и со вздохом сказал Анне, что могло быть хуже: его, например, однажды студенты вышибли из лекционного зала в Буффало полицейскими дубинками — освобождали университет от неугодных, — «они меня выставили буквально под фанфары: среди них был парень с барабаном, а другой с горном…» Хармон вспомнил о своем докладе в Стэнфорде, когда чуть не вся кафедра литературы покинула зал — заранее подготовленная акция, по его утверждению. Маррей тоже припомнил случаи из бурного прошлого — ему приходилось сталкиваться с противодействием во всех обличьях, везде и всюду: в крошечных, затерянных в холмах школах для девочек, где ответом на его стихи была только звенящая тишина; в огромных, широко раскинувшихся университетах Среднего Запада, где ему по дороге домой, в жилой корпус, случалось заблудиться и проплутать всю ночь среди каких-то сельскохозяйственных угодий, скитаясь по лугам и задворкам, от тоски и бессилия чуть не плача; в больших, втиснутых в центр города университетах типа Уэйновского государственного, где его поэтический вечер в роскошном стеклянном здании прервали выстрелы: детройтская полиция, гоняясь за какими-то террористами из «Черных пантер», кинулась за ними сперва во двор, потом вокруг библиотеки, за угол, и расстреляла на одной из преподавательских автостоянок.
Анна поежилась. Но вид у нее был уже получше, и когда Хармон Орбах протянул им нечто в белой баночке — «кокаин, — стыдясь, пояснил он, — и самого лучшего качества», — она взяла, поколебавшись разве что мгновение. Церемонно, с девичьей нарочитой деликатностью понюхала щепотку. Хармон усмехнулся было, но она, вспыхнув, одернула его: «Ну зачем вы надо мной смеетесь? После всего, что нынче на меня свалилось!..» Маррей сперва отказался, объяснив Хармону, что, будучи алкоголиком, он предпочел бы на этом и остановиться. Но Хармон настаивал, и он сдался, сел рядом с Анной на кровать и взял несколько крупинок белого порошка, уже ощущая пьянящее и таинственно-неизъяснимое успокоение: что ж, Анна ему в общем нравится — пусть страшненькая, пусть стервочка, но ведь и она поэт, да к тому же, кажется, приятельница Розалинды, — а насчет Орбаха, так тут и вовсе о чем говорить, это его старинный друг! Хармон взбудораженно требовал во что бы то ни стало отпраздновать: Неделе поэзии конец! поэзии конец! всему конец!
…Проснувшись, Маррей не сразу понял, где он: полностью одетый, даже в ботинках, лежит неизвестно где поперек кровати… в обществе Хармона Орбаха и женщины с длинными спутанными волосами… причем оба храпят и сопят в полнейшем самозабвении, а Орбах, раскинувшись, отбросил руку Маррею прямо на лицо. Женщина оказалась Анной Доминик. Маррей выпростался из-под своих приятелей и заковылял к окну. Двумя этажами ниже был плавательный бассейн, над ним парусиновый тент, там и сям продавленный дождевыми лужами, в которых под лучами утреннего солнца плескались птички — какие-то чудные, темненькие, с красными и желтыми полосками по крыльям — малиновки, что ли? Все блистало, лучилось, омытое и осиянное. Маррей не мог понять, откуда, почему, как получилось, что он стоит тут, смотрит, осовело помаргивая, — поверженный, опустошенный, сломленный, побежденный, уничтоженный, такой обескровленный и разбитый, и вот поди ж ты, наперекор себе, вопреки затаившимся предчувствиям — счастлив.
Прославленный?..
Перевод В. Бошняка
Пистолетный выстрел.
Все вскакивают на ноги, в зале суматоха, на полу умирает человек.
В воздухе запах пороха.
Ничего этого не было. Он стоит на трибуне, он жив, он живет. У него массивные, широкие плечи; модный темный костюм сидит на нем элегантно. Весь он безукоризнен. Перекладывает страницы и, подавшись вперед, уверенно смотрит с трибуны в зал. Руки огромные, как клешни у омара. Берется за микрофон и рывком выгибает его вверх, поближе к себе. Это движение, резкое и слегка неуклюжее, лишний раз подчеркивает его рост: да, мой отец очень высокий, метр девяносто восемь, и он намного выше того человека, который только что представил его залу.