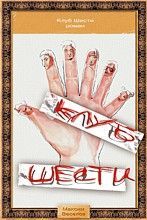Ошеломляют, захватывают и уносят в собственное пространство. То там, то тут замерли одиночки и пары у холстов, и словно световые ниточки соединяют их глаза с картинами, словно происходит действо обмена светом, люди – картинам, а картины – людям. Даже энерджайзерные журналисты перестали марионетничать и прильнули к полотнам. А на винтовой лестнице Теодор увидел пару, сидящую прямо на ступеньках и уткнувшихся в альманах, незаметно заглянул через плечо – его рассказ читают, «Приехали… полетать».
Коньячное опьянение покинуло Теодора Неелова, оно было ни к чему. Ведь тысячи творящих людей мечтают увидеть подобное чудо – людей, внимающих их искусству.
Незаметным он оделся в пустом гардеробе и выскользнул на улицу. Мавр сделал.
Мавр может. Остаётся – уходить.
Их с Мусей не тревожила промозглая серость за окном. Как не тревожит на пляже целлюлит у незнакомой бабушки, так, грустно за человеков вкупе, мол, все там будем и только Брюсовская строчка в голове: «Ой, закрой свои бледные ноги!» Но, небу ведь не скажешь подобного, вот и висит над головой целлюлит облаков цвета гнилой груши, грустнит настроение, но – не тревожит.
Теодор опять был дома. Неповторимое ощущение странника, коий бывает дома не больше пары часов в месяц. Озирается, рассматривает, ревниво отмечает – что же изменилось тут, пока его не было, пока он оставлял свой дом без присмотра, занимаясь где-то на сторонах своей (?) жизнью. Перемены были. Их дом пустел.
Впрочем, он это заметил ещё пару месяцев назад, дом покидали соседи, верхний этаж, к примеру, не оставила только одна бедная семья, и, когда его друзья позвали «разграблять» покинутый всеми этаж, а он нехотя, но пошёл, то где-то на этом бедняцком этаже потерял тапочки, окончательно уяснив, что грабить нельзя, даже покинутое жилище, сам потеряешь. Теперь дом опустел окончательно и смотрел пустыми бойницами окон в серый мир под целлюлитным жиром неба. Дом готовился принять последний бой, он, этот некогда жилой и тем живой дом, созданный для мира и быта…
Теодор с Мусей пошли побродить по своему дому. В противоположном конце, здание, оказывается, уже начало обрушаться. Теодор ударил ребром ладони по штукатурке и она песочным месивом рухнула под ноги, вместе с большим куском кирпичей.
Рассмотрев кладку, он понял, что дом этот стоит тут уже даже не сто и не двести лет. Кирпичи маленькие, как прямоугольные пирожки, с желтоватым раствором меж ними. Это могли строить тысячу или тысячи лет назад. Учитывая то, что кирпичи рассыпаются в прах, а это говорит об отсутствии обжига (строители не знали огня?
Не было технологий?), то вообще непонятно, каким образом здание продержалось до этих дней. Однако, детская жажда разрушения и взрослая реальность – а, всё одно, рассыплется – взяли верх: они вдвоём начали стучать палками по стенам и те карточными пирамидками скатывались вниз, они прыгали по полу и тогда пол поддавался, и парочка, словно на санках по снежной лавине скользила на половицах по осыпающимся стенам. Веселье смерти! Азарт конницы, с шашками наголо врезающейся во вражеские батальоны! Пыльный запах веков, низверженных под ноги временной телесной молодости… Теодор вспомнил, как рушился на киноплёнке, взрываемый в жизни, храм Христа Спасителя в Москве… что бы через десятки лет восстать из небытия вновь… задумался над круговоротом в природе природы… И проснулся.
Теодор с минуту ещё полежал в постели, разглядывая потолок и прокручивая перед мысленным взором безумие сна. Какой дом?
Вот его дом.
Его собственный, купленный на деньги с его же картин. О чём речь! Но почему, почему-почему-почему раз, два, а то и по нескольку раз в месяц, он возвращается во сне в этот дом? Его дом. Только во сне – его. И в нём продолжается жизнь, и не с того момента, как Теодор снова в нём оказывается, совсем нет! Жизнь там идёт своим чередом, параллельно теодоровой настоящей, то есть, реальной, то есть той, коя не во сне. Первое, что ему требуется, снова очутившись там, это оглядеться и понять, что тут без него успело напроисходить. Это похоже на то, как мы приходя с работы, оглядываем квартиру, на предмет – что тут натворили домочадцы, пока мы вкалывали. Только ещё сложнее – Теодору приходилось уяснять, что натворили-нажили все, включая его самого, того его, который живёт в этом странном параллельном сне.
А если его во сне убьют?
Теодор вскочил с постели и пошёл курить. Убьют! Надо же! Во сне! И чё? Ну, перестанет этот дурацкий сон сниться и – всё. Главное, есть шанс! Что, если его убьют здесь, то он сможет проснуться в том городе. Жизнь продолжается, это я тебе, как доктор доктору…
Вечная песня о славном!
Бред больного воображения.
Даже художнику требуется тормозить свою голову, что бы не терять связь с миром.
Этим миром?
Да. Этим миром. Ибо быть полезным людям из сна – хорошо, а людям из реалии жизни – нужнее. Этот «сон» с нами случается чаще, а значит, он – прав. Так и есть. Вот только кто такая Муся? Эх, хорошо бы хоть её перетащить из того сна сюда, в этот…
Заварив на кухне чай, Теодор закурил и стал разглядывать полку с книгами, тетрадками, папками с набросками и вырезками за много лет. Почитать? Нет. Утро создано для нового. А новое вдохновляется старым. Вынул папку с вырезками из журналов, фото-альбомов, художественных альбомов и ещё сам Бог только знает откуда. Открыл на середине.
Китайские шелка. Мокрая акварель. Девушки. Пьёт зелёный чай из «игрушечной» чашки, сидит среди больших листьев неизвестного растения (лопух?) и думает, соблазняется жёлтым драконом (тот дарит ей горящий шар – свою душу), мечтает жаркой ночью одна и с веером, колдует перед наскальным изображением овна и каменные жрецы ждут поодаль решения своего оракула, пьёт зелёный чай… Как давно это было и было – не с нами…
Река. Плывёт ослабленный флот.
Все ждут пораженья. Как перерожденья.
Рука потянулась за карандашом. Записал и – набросок реки получился сам собой. По реке поплыл уставший от сражений флот.
Зима – испытание жизненных сил.
Для других – радость.
Перевернул альбомный лист и среди буксующих снегоуборочных машин покатились на санках дети. Современные дети. Перекличка времён? Времени нет. Есть память, как гоголевская Коробочка скрупулёзно хранящая всё подряд – и своё и чужое, уже не разбирая, где есть чьё. Коробочке всё может пригодиться здесь и сейчас. А есть будущее. Есть. Но его пока – нет. На то оно и будущее, что бы быть потом.
Вновь перевернул лист, и:
Замёрзла в мороз река, под дождём – разлилась, Обмельчала под Солнцем. Нет воли.
И на листе пошла старушка. Толста, хромоножка, одежонка. Её жизнь она не строила, эта женщина плыла по реке времени и встречала на пути мороз, дождь, палящее солнце, которых не ждала и не звала… Грустно. Можно добавить ещё:
В снегу – ожидание лета. В жару – снега.
Способ уйти пустым.
Это уже про её мужа. Грустно. Очень.
Перевернём-ка лист.
Любишь. Я могу вдохновлять.
Любовь будет долгой.
Другое дело. Девочка сидит с куклой Пьеро. Прижимает ручками тряпку куклы к груди. Дай Бог не быть этой куклой когда она вырастет. Дальше?
Янтарный стебель и Лотос: отпускают уже не живое, При встрече – рождают живое. Оба – влекут.
Разгадка любви к миру.
Ну, это мы уже рисовать не будем. Это – эротика на грани фола. Эротика физиологии и тотального влечения полов. Вот так один китайский драматург не «перевёл для народа» свою пиесу «Пионовая беседка», и случилась в Китае сексуальная революция в XIV-ом веке… не понял народ художника. Утончённость приняли за вседозволенность. Я думаю, что и Дали в своём Дневнике не эпатировал, а просто, к тому времени, уже так утончился, что все его экзистенции, на самом деле являющиеся ангельским видением, выглядят для читателя изощрённым мерзким бредом.
Да и вообще, как сказала одна богемная дама в книжном магазине: «Дайте мне, пожалуйста, хокку-двустишия, а то трёхстишия меня уже как-то… утомляют!»
– Добрый день, Теодор Сергеевич, а можно мне тоже чаю?
Художник так вздрогнул, что карандаш улетел в умывальник. Антон Владимирович, как был в плаще, с грустной миной стал вылавливать карандаш из раковины, битком набитой грязной посудой. Тем временем гость продолжал:
– И всё-таки я вас напугал… простите, ради Бога. Дверь открыта у вас, я и зашёл потихоньку, а вдруг воры? Нет, никого кроме хозяина в квартире нет, вы тут на кухне рисуете, а я тут в коридорчике и подождал тихонько, дабы – не мешать.
Он, наконец, выловил карандаш, обтёр его полотенцем и вручил застывшему в изумлении художнику.
– Это ничего, что я тут к вам, вот, вошёл?
– Ах, боже мой, да конечно, ничего, даже – хорошо! Дверь не закрыл? Ах, это бывает, это со мной случается…
Теодор вскочил, помог гостю снять плащ, усадил, вновь включил газ под чайником со свистком. Стал рыться в холодильнике. Равновесие восстановилось. Когда они уже завтракали, Теодор вспомнил вчерашнюю беседу по телефону.