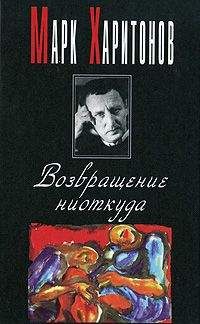Не хватит времени. Но сколько же можно стоять? Конечно, ей не повезло, но формально они правы, тут нечего спорить. Сама виновата. Этак все бы сюда… «Что вы делаете? — вскрикнула вдруг женщина. — Отдайте!» Контролер с топотом пробегал мимо меня, как тень, разросшаяся до потолка; к груди он прижимал одеяльный сверток. «Отдайте ребенка! — кричала женщина. — Куда вы его уносите? Мы к мужу…» Голос пронесся мимо, затихая… Колечко по каменным плитам… Какой ребенок, какой муж?… что я, в самом деле… Двери захлопнулись, мотор взвыл уже деловито.
Как прекрасны подвижные, переливчатые лучики света в непрозрачных капельках влаги на окне, на кончиках полусмеженных ресниц! Не надо открывать до конца глаз, даже когда тебе толчком в бок дают понять, что пора выходить. Все и так видно. Салон автобуса освещен слабым уютным светом. Тепло. Пассажиры дремлют. Ближняя дверь закрыта, надо пройти через гармошку перехода в другой салон. Здесь светлее, большинство уже не спит, кто-то завтракает или ужинает, развернув на коленях или на откидных столиках промасленные пакеты с бутербродами, крутыми яйцами, помидорами; у кого-то и термосы, и стаканчики. Чем дальше, тем оживленнее: ребенок сидит на горшке прямо у ног взрослых, обнаружился умывальник с краном. Генеральша в сиреневом халате с лилиями обернула ко мне лицо, зубная щетка внутри рта оттопыривает щеку. Охранник поторопил легким толчком в спину, дверь уже открыта, я чуть не споткнулся о ступеньку. Виктор Фомич сунул ключ в скважину, зажег в прихожей свет, как хозяин, снял плащ…
За время нашего отсутствия его имущество успело еще прирасти: к фанерным и картонным коробам, мешкам и баулам прибавилась громадная оцинкованная канистра. Охранник примерился ее наклонить и чуть прокатил на ребре. Галифе на заду угрожающе напряглись.
— Тяжелая, черт! — сказал с удовлетворением и прошелся вокруг своих богатств, чтобы обмерить еще и ногами. — Попробуй, двинь! А? Как все увозить буду? Ничего, своя ноша не тянет. Постоит еще, правильно? Я, может, уезжать-то пока не собираюсь. А? Чем мне здесь плохо?
Поглядел исподлобья на маму: дошел ли до нее юмор? Мама стояла у входа в нашу с ней комнату, прямая, какая-то напряженная, придерживая за спиной ручку закрытой двери. Я не сразу отметил, что она одета не по-домашнему торжественно: воротничок темно-зеленого платья сколот у горла янтарной брошью — последним непроданным украшением; губы подкрашены, щеки припудрены, как будто не мы, а она вернулась из театра или собралась куда-то.
— Ладно, это я так, — дал тот отбой. — Накрой-ка на стол, хозяйка. Надо отметить прибавку. В магазин уже поздно? Ничего, Виктор Фомич запасливый. У Виктора Фомича все есть. — Наклонясь, извлек из сумки, из каких-то глубинных закромов бутылку, передал — рукой за спину — мне. — Поставь. А этого, из канистры, хотите попробовать? Знаете, что там? — Обернулся, прищурил с видом хитрого заговорщика бровь. — То-то. Не сомневайтесь, у меня без подмены. Кому положено, у того есть. Кто бы что ни говорил. И будет, если оправдаешь доверие. Это, конечно, между нами, не для разглашения. Как между своими. Вы мне, можно сказать, почти свои люди. Правильно я говорю? Можно считать, почти родственники… Ну, чего стоишь? Тащи миску, ложку побольше, стаканы ставь…
Он внес блюдо в комнату, не без торжественности приподняв перед собой. От кучи знакомого бурого цвета еще исходил, казалось, пар теплой свежести, как будто она только сейчас была произведена. Но запаха не было. В самом деле не было.
— Высшей очистки, — подтвердил довольный Фомич. — И вкус улучшенного качества. А там, глядишь, и цвет доведут. Уже обещано. Хотя цвет, по мне, дело десятое. Можно и не глядя есть. Правильно? Тем более: лучше качество — меньше количество. Ну, это не нам решать. Кому положено, все равно хватит. Только сперва надо выпить, правильно я считаю? Да садитесь же оба, чего стали, как гости.
Сам разлил в три стакана, тут же опрокинул свой, не заботясь о нас, крякнул, сразу побагровел.
— Смотрите, как Виктор Фомич жирует! — откинулся, довольный, на спинку стула. — Когда мой батя из деревни от голода убежал, я полтора месяца для семьи побирался. Не деньгами приносил — хлебными корками. Наберу мешок, сяду в укромном месте, по сортам разложу. Какие съедобные, какие с плесенью. Пока вы тут пирожки с икрой жрали. А теперь мои дочки, может, тоже хотели бы на пианинах играть? Справедливость соблюдать надо, как вы считаете? И пусть поиграют. Пусть ко мне сюда приедут, здесь поживут. А вам я на это время устрою, если желаете, досрочно свидание с папашей. На сколько захотите. В порядке культурного обмена. И всем хорошо. Познакомимся взаимно с достопримечательностями. Нельзя все время на одном месте, надо расширять кругозор. Как вы считаете? Все в наших руках. И жизнь испортить по-всякому. Хоть ларька лишить, хоть срок прибавить, хоть диагноз определить безнадежный. И наоборот… в смысле выписки или, там, освобождения. Все в наших руках…
Мама сидит прямо, не двигаясь. На щеках проступили красные пятна.
— Поживете с папашей в улучшенном бараке, — развивал перспективу Фомич. — Можно сказать, гостиница. Да хоть у меня на квартире, никакой разницы. И всем хорошо, а? Вам, может, уезжать не захочется. Природа, грибы. Работу найдем по специальности. Только и разницы, что колючка, так кому она мешает? Колючка везде, ее замечать перестаешь. Элемент жизни. Я сюда ехал, в окно смотрел. Пол дня вдоль дороги — все заборы да она, родимая. За ней, опять же, природа лучше сохраняется. К нам как-то лектор приезжал, на антирелигиозные темы. Это ведь тоже можно правильно понимать. Что такое, например, был райский сад? Можно сказать, образцовая зона. Та же природа, полное обеспечение. Хотя, допустим, и без мяса. Одни овощи. Так это считается даже для здоровья полезнее. А что одежки у них не было — тоже ведь не мерзли, не жаловались. Но главное, понимали: есть вещи, которые не полагается знать. Даже интересоваться. Если без допуска. Для собственного же блага. Чем было им плохо? Пока их этот сукин сын ползучий не соблазнил. Открыли обоим ворота, сказали: выметайтесь к такой-то матери, добывайте свою пайку трудовую как знаете. И в слезах уходили, есть даже такая репродукция. Стоят у вахты в чем мать родила и просятся: пустите обратно…
Он сидел, откинувшись, против мамы, спиной к двери. Заплывшие глазки не сияли, а сочились наслаждением от полноты жизни. Но мама теперь смотрела куда-то мимо него — я еще не проследил направление ее взгляда…
— Ладно, это я так. Я насовсем сюда не собираюсь. Пока. А там посмотрим. Я вам, может, не сегодня-завтра одно золотое слово шепну. Ух, какое слово! Даже не догадываетесь. Ведь вы ничего, может, на самом деле не знаете. Может, твой мужик, допустим, уже рядом сидит, вон там? А? А я со своей стороны должен ждать, пока вы до ума дойдете, раньше нельзя. А куда опять же спешить? Надо, чтоб своим чередом созрело. Смотря по обстоятельствам. Как себя поведете. Ведь на чем, я вам скажу, жизнь строится? Во-первых, надо, чтоб впереди все время морковка болталась, без этого людей не удержать. А сзади чтоб страх оставался. Без этого тоже нельзя. Причем лучший-то страх не за себя. Мать это давно понимает, она жизнью ученая. С учеными проще дело иметь. Ну, и сынок, я смотрю, помаленьку соображать начинает. Правильно уловил, чего от него требуется. Вам отсюда, может, не так это видно. Потому что мы стережем, чтоб держалось все, как положено. А чуть если ослабим, дадим щелочке-то расползтись… Да, тебе ведь, между прочим, еще письмишко…
Потянул из заднего кармана брюк мятый листок — еще несколько таких же вывалилось на пол. Я наклонился поднять. Тот же почерк, те же слова родственного обращения — и еще на одном, постороннем листке стандартный штамп заголовка: «Справка об освобождении». «Об освобождении» зачеркнуто, взамен сверху надписано канцелярскими лиловыми чернилами: «о смерти». Без даты, ее пока нет, ее еще предстоит проставить по усмотрению, как на всех этих письмах, заготовленных впрок, дожидающихся дня, когда им позволят до вас дойти в порядке поощрения; за словом «диагноз» тоже пока лишь двоеточие, графа еще не заполнена, однако и это дело канцелярское, главное, фамилия, имя и отчество уже вписаны, пока что карандашом, похоже, чернильным, но от случайной или невидимой влаги значки местами уже становятся все более настоящими, уже набухают лиловым, расплываются на глазах…
Я поднял взгляд на маму, и лишь тут увидел тоже. В дверном проеме стояла старуха в складчатом, до полу, сером платье, в пенсне со шнурком. Должно быть, вышла из нашей комнаты.
— Ждать мне тебя или нет? — сказала недовольным скрипучим голосом.
— Слушай, сейчас бы музыку, — жмурился блаженно охранник. Он как будто успел коротко задремать и сейчас очнулся. — А? Есть у вас какой проигрыватель? Ну, интеллигенция!..
— Сейчас, — сказала мама и с трудом встала навстречу, опираясь обеими руками на стол и на спинку стула. — Сейчас… только ему объясню… Видишь, я ее все-таки нашла. Почти случайно. Мне давно говорили про какую-то гардеробщицу из Дома просвещения, которая умеет лечить особым способом. Я ведь только думала, что это у меня одной такое, с позвоночником. Никому даже не признавалась. Оказалось, это чуть ли не эпидемия. Врачи объяснить не могут. Непонятная ослабленность скелетной опоры. Ничего вроде с костями не происходит, анализы и все прочее объяснения не дают, а постепенно обмякаешь все больше, как кисель. И это, говорят, не только здесь. Не зависит от места жительства, от профессии, как говорится, от внешних факторов. То есть и не в отравлении дело, не в составе воздуха или воды… Как я сама раньше не поняла?..