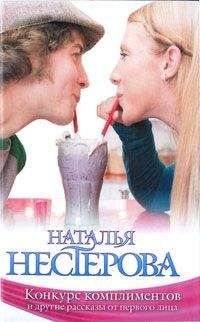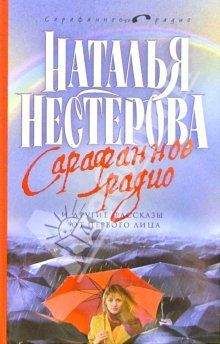– К отечественным протезам, – продолжил Иван Матвеевич, – я давно приноровился, ведь ногу мне в семьдесят четвертом оттяпало, в депо работал…
– Знаем! – хором откликнулись три других пациента.
– Ты уже рассказывал!
– Пять раз!
– Меняй пластинку!
– А как размягчать дубовую кожу протезной манжетки, рассказывал? То-то же! Слушайте, пока живой. И не дай бог, конечно, чтобы пригодилась эта наука! Чтобы кожу размягчить, надо подержать ее в кипятке! Вот!
– Вообще-то, – уныло напомнила я, – мы про девушек и обмороки говорили.
– Будут девушки! – заверил Иван Матвеевич. – Познакомился Мишка с одной. То да се – танцы, шмансы, обжимансы. И приглашает он ее, как созрело, к нам домой. Нас с матерью быть не должно, на дачу собирались. Но дождь зарядил, решили остаться, в последний момент передумали. Сидим с матерью, телевизор смотрим. Тут Мишка с девушкой приходит, мы не слышали, как он дверь открыл. А квартира у нас: входишь – коридор, – Иван Матвеевич, объясняя планировку, рубил здоровой рукой воздух. – Прямо – комната, другая, справа – ванна с туалетом, слева – кухня. Из коридора кусок кухни хорошо просматривается. И что видит Мишкина девушка, сделав три шага вперед по коридору? На газовой плите стоит большой бак, а из него торчит человеческая нога! Кипит, варится! Это я манжетку размягчал!
Наш дружный хохот залпом бухнул в палате и раскатился разноголосым гоготом. Иван Матвеевич был железнодорожником, а не артистом, поэтому не знал, что в смех не говорят, надо дождаться тишины. И ничего смешного Иван Матвеевич в той ситуации не видел. Я замахала руками: подождите, не говорите, не слышно – Ивану Матвеевичу; хватит смеяться, дайте дослушать – остальным.
– Мы-то с матерью сначала не поняли, в чем дело, – продолжал Иван Матвеевич. – Прибежали на шум, в коридоре лежит девушка, вся в обуви, рядом сын топчется.
– Без обуви? – переспросил Руслан.
– Я же говорю! Она свалилась на полку с обувью, ботинки посыпались на нее и вокруг. Один прямо ей на нос угодил, может, от запаха и очнулась. А что видит? Я без протеза был, на одной ноге прискакал. Глянула, сердешная, на мою культю и так жалобно запищала: «Отпустите меня, пожалуйста!» Мишка головой покрутил, сообразил, от чего девушка в обморок свалилась. «Не пугайся! – говорит. – Это папа свой протез улучшает, кипятит». Но онато решила, что к людоедам попала! Соображение заклинило. На полу валяется, ботинок к груди прижимает, глаза таращит и умоляет отпустить ее. И цветом лица она была… ниже среднего, вы правильно про обморочных отмечали. Мишка с матерью ее кое-как подняли, все объяснили, на кухню сводили, показали, что нога – искусственная. Только девушка от… от…
– Потрясения, – подсказала я.
– Точно, от потрясения, так и не оправилась. Все домой просилась, чтобы отпустили ее, позволили уйти, будто мы насильно ее держали. Мишка на меня глазами стреляет: не мог ты, батя, в другое время свои протезы варить? Да разве мы знали? Не по злобе сыночку всю малину испортили.
– А я крови боюсь! – вдруг заявил больной на костылях. – С детства не могу видеть. Несколько раз было: палец кто порежет, бровь разобьет, я увижу и – брык – отключаюсь.
– Хоть и не девица трепетная, – не без вредности заметила я Руслану.
– Пацаном был, – продолжал товарищ на костылях, – дрался с закрытыми глазами. Все думали, я крутой. А я боялся – у когонибудь кровянка из носа брызнет, я и отброшу копыта.
– Это достаточно редкий, часто встречающийся синдром, – с умным видом сказала медсестра.
Я невольно хмыкнула – «редкий, часто встречающийся»! Хотя в медицине не сильна, возможно, в их науке и практике оксюморон – привычное дело. Отчасти это подтвердили дальнейшие слова медсестры.
– Был один выдающийся хирург, его звали, его звали… неважно, – (все-таки она плохо училась, больше о внешнем облике заботилась), – и оказалось, что он не выносит вида живой крови. И тогда он стал прозектором, то есть патологоанатомом, и разработал современные методики вскрытия мертвых тел.
Девушка могла наслаждаться произведенным эффектом: несколько секунд мы ошарашенно молчали, переваривая полученную информацию. У меня-то перед глазами стояла жуткая картина: мужик в белом несвежем халате азартно потрошит труп и приговаривает: «Ах, какая прекрасная методика!»
– Всем мерить температуру! – приказала медсестра и вышла из палаты.
Даже ее спина выражала удовольствие, точно у актрисы, отбарабанившей сногсшибательный текст (заслуга драматурга, а не ее актерского мастерства) и скрывшейся за кулисами.
Лучше бы училась! А не изображала из себя доктора! Какие мы строгие и умные! А сама перед Русланом воображала! Я точно заметила!
Легко приму обвинение в ревности. Не переношу девиц, которые крутятся вокруг Руслана, строят ему глазки, и сам он расплывается пошлыми улыбочками. Единственное исключение – жена Руслана. Но и мой муж – такое же исключение! Стоит кому-нибудь начать выписывать вокруг меня кренделя, как Руслан заводится и начинает словесно стирать их с лица земли. Ни мой муж, ни жена Руслана не подозревают, что имеют в нашем лице ярых защитников нравственности их спутников.
– Никогда не встречался с девушкой, которая в обмороки падает! – мечтательно произнес четвертый пациент, до сих пор молчавший, как и Руслан прикованный к постели с задранной ногой. – А хотелось бы!
– На кой? – спросил больной на костылях. – Тебе ж объяснили, что они зеленого цвета и глаза закатились. Какое удовольствие?
Я поняла, что пора уходить, что начинается мужской разговор, оскорбительный для моих ушей. Встала, начала прощаться. Остановил меня вопрос Ивана Матвеевича:
– Голубушка, сбегай, а?
– Куда «сбегай»? – не поняла я.
– Тут рядом с больницей гастроном. Купи беленькой, а?
– Лучше портвейна, – сказал товарищ на костылях.
– Да чего жмотиться! – возразил обездвиженный больной в углу. – Коньяка пусть купит!
– Вам нельзя! – поразилась я. – Даже салаты запрещены! Вы – больные!
– Мы только на конечности больные, – уточнил Иван Матвеевич.
– А желудок и душа здоровые! – подхватил товарищ на костылях.
– Душа очень просит! – заверил из угла четвертый пациент.
– Ты мне друг или не друг? – грозно повысил голос Руслан.
Видели бы их лица! Даже не лица меня тронули, а шеи! Шеи у них вытянулись, напряглись, потянулись ко мне в страстном призыве. И, конечно, глаза! Четыре пары голодных мужских глаз!
Каюсь, сбегала. Купила им бутылку сухого вина. За что сначала обругали ввиду низкого градуса, а потом сказали: ну, хоть это! И на карауле стояла у дверей палаты, пока они открывали бутылку и разливали вино по кружкам – домашним, принесенным их родными для чая и компота.
Выпили мужики, легли довольные, опустили головы на сиротские больничные подушки. Я забрала бутылку, спрятала в сумку, помахала всем ручкой. Руслан показал мне кулак, я ему – ехидно, язык. Кто в споре победил? Уже закрывая дверь, услышала, как спрашивают моего друга:
– Она тебе вообще-то кто?
Интересно, хотя и абсолютно ясно, что Руслан ответил.
– Степан из восемнадцатой квартиры бандит бандитом, а дочь на виолончели учится играть.
Раиса Тимофеевна сидит на моей кухне, пьет чай и рассказывает новости нашего дома.
Пятнадцать лет назад, когда мы въехали в этот дом, ведомственный, от фабрики, большинство из общежития переселились, друг друга знали и жили почти коммуной. На субботники выходили весной и осенью, двор обустраивали, после работы тащили снедь на общий стол, гуляли до полуночи, танцевали под магнитофон. Молодые специалисты, приехавшие в городок при фабрике по распределению, мы обретали новую родину, на которой соседи становились чем-то вроде близких и дальних родственников.
Сейчас посаженные нами деревья выросли, как и дети, а двор одичал. На месте детских песочниц – стоянка автомобилей, где была карусель – мусорные баки, на хоккейной площадке, которую заливали зимой, выгуливают собак. Наша коммуна распалась на отдельные интересы в отдельных квартирах. И уже почему-то не бежишь к соседям занять сахар или соль. Не кончаются спички, деньги до получки занимать стало неловко. Испеченные пироги поедаются за закрытой дверью, никто никого не спешит угощать. При встрече перекинемся парой фраз, и каждый пошел своей дорогой. Хотя большинство в нашем двухподъездном доме – старожилы, есть и новенькие, с которыми и не здороваешься даже.
Единственная, кто продолжает нас связывать, поддерживает минимальный уровень в сообщающихся сосудах, это – Раиса Тимофеевна. Мой муж зовет ее Сарафанное радио – деликатное определение для завзятой собирательницы и распространительницы слухов.
Мне кажется, за пятнадцать лет Раиса Тимофеевна нисколько не изменилась. Хотя, когда мы здесь поселились, она уже собиралась на пенсию и годилась большинству женщин в матери. Мы постарели, а Раиса Тимофеевна точно законсервировалась. Она одинока – муж умер рано, детей не было. Но по характеру, по страстному интересу к чужой жизни Раисе Тимофеевне следовало бы иметь выводок детей и внуков. Не сложилось.