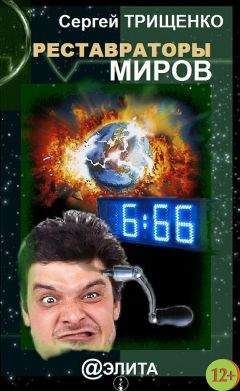Знаете, на чем сходились? На разговорах о Блоке, на том, что ему нужна нянька, что он дитя, что в нем «крепнет шатун», то есть он все чаще исчезал из дома, чтобы развеяться, а на самом деле – чтобы пить…
Потом случилось то, что Люба запомнила в подробностях. Возвращаясь домой с дневного концерта оркестра графа Шереметева, Блок уселся в сани с матерью, а Люба – с Белым. Когда лошади поравнялись с домиком Петра на Неве, Люба на какую-то фразу Белого повернулась к нему лицом – и остолбенела. «Наши близко встретившиеся взгляды… но ведь это то же, то же!..» То же, как и с Блоком, в санях.
С этого морозного поцелуя и «пошел кавардак, – писала она. – Не успевали мы остаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом… Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы». Уж не тогда ли, как в мемуарных записках вспоминал потом Белый, она призналась ему, что Блок «ей не муж», что они не живут как муж и жена, что она его «любит братски», а Белого – «подлинно». Но когда Белый сказал, что готов жениться на ней, Люба заколебалась. Кажется, тогда она и закурила впервые, приняла, как писала мать Блока, «залихватский тон», а иногда, некстати, начинала вдруг истерично хохотать…
Люба запретит Белому приезжать в Петербург, но будет слать ему странные письма: «Люблю Сашу… Но не знаю, люблю ли тебя; не мучаюсь этим… Милый, что это? Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Целую тебя. Твоя…»; «Несомненно, что я люблю и тебя, нетленно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя не променяю, я должна принять трагедию любви к обоим вам…»; «Теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами»; «Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне – брат, но теперь у меня относительно Вас слишком много трудностей и соблазнов – нам надо разойтись – до времени…»; «Вы ведь знаете весь мой демонизм и все мои соблазны. Увижу Вас, и опять меня потянет к Вам ближе, ближе, ближе… а я не хочу, не надо, не надо! Если знаете, как мне не изменить Саше, как быть с Вами, – скажите! Видите, Боря, что мне выхода теперь не найти другого, как не видеть Вас… Если возьмете все на себя, приезжайте. Все – все вопросы, все муки. И меня – не соблазняйте, будьте сильны решать самостоятельно… Я и твоя, да, да, и твоя. Хочу, хочу тебя видеть, приезжай»; «Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает… Как ужасно, что не могу выбрать, не могу разлюбить ни его, ни тебя… Саша не хочет, чтобы ты приезжал… А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро, я хочу, чтобы ты приехал… Ты постарайся придумать, а я пока придумала одно – нехорошо, неудобно: что ты приедешь в Петербург, и я буду к тебе приходить, а ты к нам нет… Целую тебя долго, долго, милый…»
Могу представить, что творилось в голове бедного москвича. Люблю – не люблю, приезжай – не приезжай. Потом, через годы, в своей книге Любовь Дмитриевна будет путано, туманно объяснять свои метания между Блоком и Белым. Объясняла и темпераментом северянки, который похож на «замороженное шампанское», и материнскими – от казаков – корнями, и озорным, «разбойным» размахом характера. Последнее, кстати, не преувеличение. В гимназии Э.П.Шаффе, которая достояла до наших дней (5-я линия, 16), где училась Люба, и через полтора десятка лет «бытовало предание», как Менделеева во время урока («очень уж было скучно!») запустила в стену класса чернильницей. Это не она рассказывала – рассказала Евгения Книпович, которая была близка к семье Блоков и училась когда-то в той же гимназии. Но возвращаясь к переживаниям и метаниям Любы, – больше всего поражает их итоговая суть – совсем уж невозможная фраза Любы: «Той весной… я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать…» Таким «упорным», кажется, и оказался Андрей Белый. И она, чуть позже правда, сама позовет его приехать в Петербург…
«Она потребовала, – рассказывал Белый много лет спустя поэтессе Одоевцевой, – чтобы я дал ей клятву спасти ее, даже против ее воли. А Саша молчал, бездонно молчал. И мы пришли с нею к Саше в кабинет. Ведь я дал ей клятву. Его глаза просили: “Не надо”. Но я безжалостно: “Нам надо с тобой поговорить”. И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль, тихо: “Что же? Я рад”. И так открыто, так по-детски смотрел на меня голубыми, чудными глазами, так беззащитно, беспомощно. Я все ему сказал. Как обвинитель. Я стоял перед ним. Я был готов принять удар. Даже смертельный удар. Нападай!.. Но он молчал. Долго молчал. И потом тихо, еще тише, чем раньше, с той же улыбкой медленно повторил: “Что ж… Я рад…” Она с дивана, где сидела, крикнула: “Саша, да неужели же?..” Но он ничего не ответил. И мы с ней оба молча вышли и тихо закрыли дверь за собой. Она заплакала. И я заплакал с ней. Мне было стыдно за себя. За нее. А он… Такое величие, такое мужество! И как он был прекрасен в ту минуту. Святой Себастьян. А за окном каркали черные вороны. На нашу голову каркали…»
После этого приезда «беленький заяц» – Андрей Белый – и пошлет Блоку «решительное» письмо… «Милый Саша, клянусь… что Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что только через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видеть ее… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Любе – необходим воздух моей души. Клянусь, что если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: и это не просто переезд, а паломничество. Я… должен, должен, должен ее видать… Любящий тебя, твой Боря». После этого письма он и вызовет Блока на дуэль![52]
…Я начал этот рассказ с меблирашек на Серпуховской. Так вот, теперь Белый, мотаясь из Москвы в Петербург и обратно, чаще всего останавливался как раз в меблированных комнатах. Удобно! И было два адреса, где он жил чаще всего. Более того, эти две меблирашки располагались на одной улице, в двух угловых с Невским домах – напротив друг друга. Улица называлась Караванной. Слева, если смотреть с Невского, в угловом доме (Невский, 64) располагались комнаты «Бель-Вю», а справа – (Невский, 66) – меблированные комнаты «Париж».
В «Бель-вю» Белый жил в апреле 1906 года, когда еще на что-то надеялся. «Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, – писала в те дни М.А.Бекетова, – а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует – Люба рвет и мечет из-за того, чтобы не помешали ей видеться с Борей». Да, Белый еще надеялся. Во всяком случае, позавтракав последний раз у Блоков, сыграв на рояле «Вы жертвою пали…» и выбежав из их квартиры, увидел, обернувшись, что Люба долго махала ему из форточки белым платком. Может, потому, что поверил в свои надежды, и послал Блоку вызов на дуэль…
А в соседнем доме, на Караванной, в меблированных комнатах «Париж», он поселится через полгода после этих событий, когда Люба сделает окончательный выбор в пользу Блока. Она сообщит Белому, что не писала ему, потому что ей надо было «изглаживать все, что было». А себе, на старости лет, признается: к нему ничего не чувствовала, «…а что выделывала!»…
«Картонная кукла», – горько назовет ее через пятнадцать лет Андрей Белый. «Ведь я любил ее священной любовью, – признается Одоевцевой. – А она оказалась картонной куклой. Ужас. Ужас… С кукольной душой. Нет, и кукольной души у нее не было. Ничего не было. Пар. Пустота. И все-таки из-за нее все погибло. Мы очутились в петле. Ни разрубить. Ни развязать. Ни с ней, ни без нее. О, до чего она меня измучила! Меня и… Сашу…»
Впервые это стало понятно ему как раз в меблирашках «Париж». «Побежден! – писал он в воспоминаниях о Блоке. – Побежден!..» Тогда он и отправит из этих меблирашек предсмертное, прощальное письмо в Москву матери…
Но это уже другая история. О ней – у следующего блоковского дома.
12. БУМАЖНЫЕ ДАМЫ (Адрес четвертый: Лахтинская ул., 3, кв. 44)
Восемь дней ждал решения судьбы в меблированных комнатах на Караванной умирающий от любви Андрей Белый. Позже, в воспоминаниях, Любовь Дмитриевна признается: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно… Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как “знакомые”. Мне, конечно, эго было обременительно, трудно и хлопотливо… Игру я завела слишком далеко… Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже ненужной мне любви… Он был уверен, что я “люблю” его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка – был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права… Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи на придачу…»