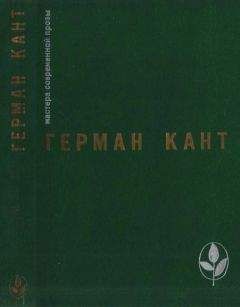— Очень мило, — сказала Хелла Шмёде, — мой отец тоже лавочник.
Они заверили ее, что их это ничуть не смущает, а если у нее еще есть вопросы, так пусть, не стесняясь, выкладывает.
Но потом они все-таки долго молчали.
И только у входа в общежитие Трулезанд спросил:
— А вы читали Островского «Как закалялась сталь»? Нет? Прочтите, тогда вам многое станет ясно!
— Большое спасибо за совет, — холодно ответила фрейлейн Шмёде. — Может быть, мне удастся взять реванш другим литературным примером. Есть еще один Островский, который написал пьесу «На всякого мудреца довольно простоты». Так где же ваша комната?
Герман Грипер ни разу в жизни не был в театре и никогда о том не жалел.
— Ты человек пишущий, — сказал он Роберту, — тебе туда ходить положено, а мне чего ради? Сам кого хочешь одурачу, так чему я там научусь? Напиши-ка мои мемуары, и тебе тоже театр будет ни к чему. Тридцать лет только и нарушаю законы, а за решетку ни разу не угодил. Когда за спиной такой опыт, ни один актеришка тебя не удивит. Цирк — дело другое, в цирк я хожу. С цирком меня связывают дорогие воспоминания. Собственно, дорогими они были для других. Вот на Хейлигенгейстфельд был когда-то цирк… Постой-ка, когда же это было? Сдается мне, в начале двадцатых годов. Работал там фокусник, высший класс. Такие фокусы с картами делал — просто чудеса. Ну, я в чудеса не верю и никогда не верил. Кончилось представление, я этого фокусника пригласил на серьезный разговор. Он пил вино, а я называл его «маэстро». После трех бутылок серьезность с него слетела, он оказался простецким парнем. Я-то не прост, но при случае могу прикинуться.
Утром я приволок его в цирк, потом поспал два часика и тут же начал разучивать оба его фокуса, секрет которых я у него вечером выманил.
Знаешь, как долго я тренировался? Тебе и в голову не придет, ты же писака. Две недели, целых две недели! По восемь часов в день! И целых две недели ни гроша не зарабатывал, чистое разорение. Конечно, можно было устроиться иначе. Шулеров в то время околачивалось повсюду тьма тьмущая. Впрочем, чаще всего они не околачивались, а сидели там, где карты запрещены. Почему, думаешь, они сидели? Да потому, что обучились своим фокусам у типов, что тоже околачиваются повсюду с двумя колодами, но чаще всего и те не околачивались, а тоже сидели, потому что своим фокусам… ясно?
Образно это можно выразить так: хочешь стать придворным сапожником, не учись у холодного сапожника. Я не тщеславен, но, выражаясь образно, стал придворным сапожником.
Только пойми меня правильно и не подумай, что я стал эдаким светским авантюристом, снимал с веселых вдовушек бриллиантовые колье. Я никогда не крал, к воровству я испытываю отвращение. Опасное занятие.
Мои фокусы изобрел король иллюзионистов. А я их усовершенствовал, приобрел сноровку.
Для первого публичного выступления я забинтовал правую руку, и она у меня висела на черной повязке. День был базарный, а в базарные дни здесь творилось нечто невообразимое. В городе было полно зевак.
Крестьяне, распродав зелень и кур, сидели по трактирам и играли в карты. Дурачье, не могли подождать, добраться до своей деревни, нет, им надо было именно здесь играть! Меня злила их глупость.
Хорошо одетый, аккуратно причесанный на пробор, с рукой на перевязи, я только следил за игрой. И вздыхал. Вздыхал до тех пор, пока один крестьянин не спросил, чего это я все вздыхаю. Я осторожно приподнял забинтованную руку и перестал вздыхать. Потом из моей груди снова вырвался вздох. Тут уж они из меня вытянули, в чем дело: обидно мне, что играть не могу, несчастный случай на работе, вот и стою здесь, карманы набиты деньгами — за увечье получил, — а играть не могу. Крестьяне-то показали себя сущими соблазнителями. В конце концов я не устоял против соблазна, согласился все же попробовать.
Но если игрок сам карты стасовать не может, то какой же это игрок. Из чувства собственного достоинства я прежде всего попытался тасовать карты одной рукой, левой.
Крестьяне тем временем продолжали играть, пока я не сказал, что теперь, пожалуй, можно попробовать.
Заказал новую колоду, запечатанную — так принято, когда играешь в незнакомой компании.
Официант принес карты на подносе; я взял колоду, проверил печать, потом показал остальным и бросил карты на стол. Но это были уже не те карты, что принес официант.
Играть одной левой, да еще новой колодой, — слишком рискованно. У меня были собственные карты. Они-то и очутились на столе.
У тебя у самого котелок варит, поэтому я тебе вот что скажу: я уважаю всех, у кого котелок варит.
Я работал левой что надо, но главное — я работал головой. К примеру, умел из тридцати двух колод составить две и знал их как свои пять пальцев, узнавал по рубашкам. Узор рубашек обязательно должен быть очень сложный, будто тканый. Для профана все такие рубашки одинаковые, но профессионал видит больше. Профессионал из тридцати двух колод составляет две и знает в них каждую карту.
Вот такая колода и лежала на столе, когда мы начали.
Когда же мы кончили, оказалось, что я выиграл изрядную сумму, но у каждого понемногу, чтобы никто не был в обиде.
Крестьяне пожелали мне поскорее выздороветь, и это, верно, помогло. Вечером боль как рукой сняло, только к следующему базарному дню она вновь меня скрутила. Но однажды я прослышал, что на рынке меня прозвали Герман Больная Лапа. Мне это было не по душе, слава мне ни к чему.
Я переключился на другую технику и потом все менял и менял приемы, поэтому много лет мне все сходило с рук. Но не только поэтому, главное, потому, что я человек прилежный.
Ты тоже прилежный, и я это уважаю. Не будь я прилежным, не выдержать бы мне при такой конкуренции восемь лет. Все восемь лет я начинал свой трудовой день в девять. Жил я в гостиницах не слишком дорогих, но и не слишком дешевых — в средних. В девять мне приносили завтрак. Я съедал его в постели, а кончив, переворачивал поднос и начинал тренировку. Все известные приемы я отрабатывал так тщательно, будто проделывал их впервые. Восемь лет подряд ежедневно по шесть часов. Нет, никто не может сказать, что я свои деньги на улице подобрал. И ты это подчеркни, когда мои мемуары писать будешь. Народ теперь — особенно молодые — ничего в таких делах не смыслит. Думают, все легко дается, как в ковбойских фильмах. Смотрел я эти фильмы ради интереса, так вот послушай: карточный король есть чуть не в каждом, и он выигрывает, пока его не прирежут или не пристрелят, потому что чужое добро впрок не идет. Но обращаю твое внимание: парни эти никогда не тренируются. Как же верить таким фильмам, когда ты сам профессиональный игрок? Меня от этого с души воротит. Если уж нужно искусство, то пусть будет без вранья. Я потому и в театр не хожу. Да еще потому, что многих актеров знавал. Как представлю себе, что те, кого я знаю, короля или ковбоя играют, а то еще, чего доброго, игрока, так…
Нет, театр — это не жизнь, вот цирк — дело другое, туда я и теперь еще заглядываю, там видно работу.
В комнату «Красный Октябрь» пришли посетители. Но пришли они не с цветами и не с яблоками в папиросной бумажке, а со своими соображениями.
Ангельхоф и Вёльшов, Старый Фриц, навестили Квази Рика, чтобы сообщить, что ему нельзя больше оставаться в общежитии. Они детально обсудили этот вопрос, заявили они, и выработали единое мнение.
Когда они вошли, Якоб и Роберт учили латынь, а Трулезанд мастерил для Квази маленький пюпитр. И вот по одну сторону постели больного стоят трое друзей, а по другую — Вёльшов и Ангельхоф. Квази молча переводит взгляд с одного на другого.
— Но почему? — спрашивает Трулезанд. — Почему, товарищ директор?
— Да ведь это ясно как день, — отвечает Старый Фриц, — это ясно как день. Потому что он болен. — И, не глядя на Квази, он показывает пальцем в его сторону. — Его надо положить в больницу.
— В больницу кладут тяжелобольных, — говорит Роберт, — а Карл Гейнц не так уж болен. Он только начал болеть и не разболеется, если за ним хорошо ухаживать.
Ангельхоф предложил:
— Тогда его надо поместить в санаторий. А здесь у нас не санаторий. Здесь общежитие рабоче-крестьянского факультета.
— Но доктор Гропюн сказал нам, — робко вставил Якоб, — что в санаториях точно такие же больные, как в больницах. И все санатории переполнены.
— Это уж наша забота, — заявил Вёльшов, — будем действовать через государственные учреждения. Ведь речь идет о нашем студенте, о рабочем студенте.
— Согласен, — сказал Трулезанд, — но врач установил, что у этого рабочего студента всего небольшой очаг, так нужно ли включать госучреждения, если врач считает…
— Мы читали врачебное заключение, — прервал его Ангельхоф, — оно звучит безобидно. Но мы читали также характеристику врача. Она звучит менее безобидно. Этот человек был майором медицинской службы, учился в Тюбингене и Гейдельберге, а ученую степень получил в Бонне. В Бонне! В тысяча девятьсот тридцать четвертом году! А знаете, что он ответил, когда ему предложили вступить в Общество по изучению культуры Советского Союза? Зачитать вам? Доктор Гропюн ответил: «Благодарю, нет». Вам это нравится?