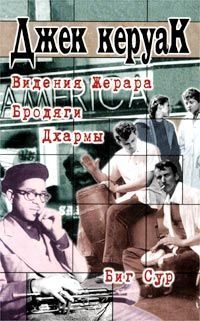Я спросил Джефи:
– На хрена тебе столько девиц? Может, поделишься?
– Бери любую. Сегодня мне все равно.
Я пошел к костру, послушать последние колкости Какоутеса. На бревне сидел Артур Уэйн – в хорошем костюме, при галстуке, я подошел и спросил его:
– Что такое буддизм? Воображение, волшебство, вспышка молнии, или игры, или сны, или не игры и не сны?
– Нет, для меня буддизм – значит узнать как можно больше народу.
И вот он расхаживал по двору и дому, такой любезный, со всеми здоровался за руку и беседовал, коктейль-парти, да и только. Тем временем события развивались. Я сам пустился в танец с высокой девицей. Плясала она отчаянно. Я хотел утащить ее на холм, прихватив бутылочку, но она была с мужем. Позже явился какой-то сумасшедший цветной парень, игравший, как на бонгах, на собственной голове, щеках, губах и груди, он лупил себя что есть силы и извлекал весьма громкие звуки, причем это был настоящий бит. Все были в восторге и сочли его бодхисаттвой.
Все новые люди, самые разные, прибывали из города, прослышав в барах, что у нас тут творится. Вдруг смотрю – Альва с Джорджем расхаживают нагишом.
– Чего это вы?
– Да так, просто решили раздеться.
Никому, кажется, не было дела. Я видел, как хорошо одетые Какоутес и Артур Уэйн стояли у костра с этой парой голых сумасшедших и вели с ними вежливую, серьезную беседу о мировых проблемах. Наконец разделся и Джефи и продолжал бродить со своей бутылкой, уже голышом. Поймав взгляд кого-нибудь из своих девиц, он с диким ревом бросался на нее, и девица с писком вылетала из комнаты. Полное безумие. Интересно: что, если бы полицейские из Корте-Мадера прознали о наших безобразиях и приехали разбираться? Костер яркий, с дороги прекрасно видно все, что делается во дворе. И все равно, как ни странно, ничего особенного не было в этом зрелище: костер, угощение на доске, люди играют на гитарах, качаются на ветру густые деревья, и среди всех расхаживают несколько голых.
Я говорил с отцом Джефи и спросил:
– А как вам нравится, что он разделся?
– Да подумаешь, по мне, пускай делает что хочет. Слушай, а где эта длинная, с которой мы танцевали? – Настоящий папаша для бродяги Дхармы, то, что надо. В молодости ему круто пришлось в Орегоне – кормить целое семейство в выстроенной своими руками хижине, убиваться, выращивая урожай на беспощадной жесткой земле, пережидать холодные зимы. Ныне он стал преуспевающим малярным подрядчиком, обзавелся одним из лучших домов в Милл-Вэлли и содержал свою сестру. Мать Джефи жила на севере, одна, в меблированных комнатах. Джефи собирался позаботиться о ней по возвращении из Японии. Я видел одинокое письмо от нее. Джефи сказал, что его родители развелись окончательно и бесповоротно, но, вернувшись из монастыря, он попробует как-то помочь матери. Он не любил о ней говорить, а отец, конечно, вообще не упоминал ее. Но отец мне нравился, мне нравилось, как он плясал, неистовый, потный, как спокойно относился к эксцентричным выходкам других гостей – пусть каждый делает, что хочет – и уехал домой около полуночи, проплясав вниз к своей машине под дождем бросаемых цветов.
Еще был славный малый Эл Ларк, он все время просидел, развалясь, с гитарой, перебирая струны, рокоча блюзовыми аккордами, иногда наигрывая фламенко, а в три часа ночи, когда все уже угомонились, они с женой засыпали во дворе в спальных мешках, и я слышал, как они дурачились в траве. «Потанцуем?» – предлагала она. «Уймись же ты, дай поспать,» – отвечал он.
Сайке с Джефи поругались, и она ушла, не захотев подняться с ним на холм, почтить его чистые простыни. Я видел, как он, шатаясь, поднимается в гору, праздник кончился.
Я проводил Сайке до машины и сказал:
– Слушай, зачем ты огорчаешь Джефи в эту прощальную ночь?
– Пошел он к черту, он все время делает мне гадости.
– Да брось ты, поднимись к нему, никто тебя там не съест.
– Ну и что. Я поехала в город.
– Ну перестань, не злись. Джефи говорил мне, что он тебя любит.
– Вранье.
– Эх, жизнь, – вздохнул я, уходя с бутылью вина, и, поднимаясь на холм, слышал, как она пыталась развернуться на узкой дороге, но съехала задними колесами в кювет и не смогла выбраться, поэтому ей все равно пришлось ночевать у Кристины, на полу. Наверху в хижине тоже весь пол был занят: там устроились и Бад, и Кофлин, и Альва, и Джордж, завернувшись в разнообразные одеяла и спальные мешки. Расстилая свой спальник на мягкой траве, я подумал, что устроился лучше всех. Вот и закончился праздник, все свое отвизжали, отпели, отбарабанили, а толку? Развлекаясь своей бутылочкой, я принялся петь в ночи. Ослепительно сияли звезды.
– Комар величиной с гору Сумеру намного больше, чем ты думаешь! – крикнул Кофлин из домика, заслышав мое пение.
– Конская подкова намного нежнее, чем кажется! – отвечал я.
В фуфайке и кальсонах выскочил во двор Альва, стал танцевать в траве и завывать длинные стихи. Наконец Бад принялся серьезно излагать свои новые идеи. То есть у нас начался как бы новый виток. «Пошли вниз, посмотрим, не осталось ли девчонок!» – я спустился, вернее, скатился с холма и опять попытался затащить наверх Сайке, но она валялась на полу в полном бесчувствии. Угли большого костра были все еще раскалены докрасна. Шон храпел в жениной спальне. Я взял с доски кусок хлеба, намазал творожным сыром и съел, запивая вином. В полном одиночестве сидел я у костра; на востоке стало светать. «Ну и пьян же я! – сказал я. – Подъем! Подъем! – заорал я. – Козел дня высунул рога рассвета! Никаких но! Никаких если! Эй вы! фуфелы! свиньи! воры! гады! палачи! Бегом марш!» Внезапно я ощутил невероятную жалость ко всем человеческим существам, кто бы они ни были, с их лицами, скорбными ртами, личностями, попытками веселиться, мелкими пакостями, чувством утраты, с их пустыми скучными остротами, обреченными на мгновенное забвение: ах, к чему все это? Я знал, что звук тишины разлит повсюду, и, значит, все есть тишина. А вдруг мы проснемся и увидим, что все, что мы считали тем-то и тем-то, вовсе не является тем-то и тем-то? Приветствуемый птицами, всполз я в гору и созерцал спящие тела, распростертые и скрюченные на полу хижины. Кто все эти странные призраки, укоренившиеся рядом со мной в этом дурацком земном приключеньице? И кто я сам? Бедный Джефи, в восемь часов он вскочил и застучал в сковородку, созывая всех на блины.
Праздник растянулся на несколько дней; на утро третьего дня повсюду еще валялись люди, когда мы с Джефи потихоньку взяли рюкзаки, собрали немного еды и зашагали вниз по дороге в оранжевом утреннем свете золотых деньков Калифорнии. Предстоял чудесный день, мы снова были в своей стихии, в походе.
Джефи был в замечательном настроении.
– Черт, как хорошо наконец вырваться из этого разгула и оказаться в лесу. Вот вернусь из Японии, Рэй, станет холодно, подденем теплое белье и поедем стопом по стране. Представь себе, если можешь: океан и горы, Аляска, Кламат, мощнейшие хвойные леса, озеро с миллионом диких гусей, вот где бхикковать! У-у! Кстати, знаешь, что это значит по-китайски?
– Нет.
– Туман. Здесь, в Марин-Каунти, леса отличные, сегодня покажу тебе Мьюировский лес, но там, на севере тихоокеанского побережья, настоящие горы, там-то и развернется в будущем все движение Дхармы. Знаешь, что я сделаю? Напишу новую длинную поэму под названием «Реки и горы без конца», начну на свитке, постепенно разворачивая его, чтобы появлялись все новые неожиданности, а все прежнее забывалось, понимаешь, как река, или как вот эти длиннющие китайские росписи на шелке, где два крошечных человечка бредут по бесконечному горному пейзажу, среди искривленных деревьев, так высоко, что к самому верху тают в тумане, в шелковой пустоте. Буду писать ее три тысячи лет, она будет набита всевозможными сведениями из разнообразных областей: сохранение почв, управление долиной Теннесси, астрономия, геология, путешествия Чжуань Цуня, теория китайской живописи, восстановление лесов, океаническая экология и пищевые цепи.
– Давай-давай. – Как всегда, я шагал за ним следом, и рюкзаки сидели на плечах так удобно, как будто мы вьючные животные и без груза нам не по себе, а когда начался подъем, я услышал все то же старое доброе одинокое старое милое прежнее «топ-топ», вверх по тропе, медленно, миля в час. Поднявшись по крутой дороге, мы миновали несколько домиков возле кустистых утесов со струящимися водопадами, потом прошли вверх по лугу – бабочки, сено, немного утренней росы, и по грунтовой дороге, под конец уже так высоко, что стало видно всю Корте-Мадера, и Милл-Вэлли, и даже красную верхушку Голден-Гейтского моста.
– Завтра вечером по дороге на Стимсон-Бич, – сказал Джефи, – увидишь весь Сан-Франциско, белый, на берегу голубого залива. Ей-Богу, когда-нибудь мы можем основать здесь, в горах Калифорнии, прекрасное свободное племя, собрать девушек и плодить сияющее просветленное потомство, жить, как индейцы, в вигвамах, питаться ягодами и почками.