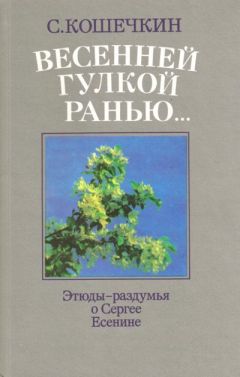— Зажигалка, — констатирует Сапог. — Гад…
Тёха продолжает яростно растираться снегом. Шрам на его молочно-белом жилистом теле наливается багровым.
— Мужчины, а не поехать ли нам перекусить, что бог послал? — спрашивает фиолетовый. — Седых, ты как?
— Только не в «Голливуд», — флегматично отвечает красный. — Там повар сменился.
— Ну, тогда в «Берлогу», а?
— Давайте лучше ко мне, — синий выбрасывает окурок Тёхе под ноги. — Отец до вечера у губернатора пробудет, мать позавчера улетела в Шанхай.
— Лику с Анжелой позовем? — плотоядно облизывает губы фиолетовый.
— Может, новеньких нацепляем? — не соглашается красный.
— Ладно, на месте решим! — подытоживает синий. — Все, мужчины, погнали! Ай лайк ту мувит-мувит! Летс гоу!
Снегоходы взревывают, срываются с места. Нас еще раз обдает снежной пылью. Комбинезоны уезжают в сторону дальних домов. Тёха, тяжело дыша, поднимает одежду.
— Я уже думал — все, — говорит, лязгая зубами то ли от холода, то ли от страха, Губастый.
— Очконидзе! — усмехается Сапог. — Они ж сами зассали. Ур-роды! Привыкли жить — на папином длинмузине с кайфоном в руке…
Он делает шаг, вытаскивает из сугроба недокуренную коричневую сигарету и делает глубокую затяжку.
— Фу, блин! Промокла…
***
— Я договорился, — Тёха кивает на фуры за спиной. — Будем шмотки разгружать. Три машины — по тыще на нос. Я, Сапог, Пятера. Губастый, Шуня — пойдете молиться у входа. Если местные наедут, скажите — Чингис поставил.
Выдав эту длинную тираду, бригадир умолкает.
— А пожрать нам дадут? — зачем-то спрашивает Губастый.
— Догонят — и еще раз дадут, — гогочет Сапог. — Иди, молись, терпила.
«Молиться» — это значит просить у добрых дяденек и тетенек копеечку на пропитание. Ремесло тонкое, хитрое, а при правильной организации — довольно денежное. Губастый им владеет в совершенстве. Он говорит, что главное — правильно обозначиться, привлечь внимание. И необязательно жалобить народ. Это самое простое, и «на слезу» наши люди уже давно не клюют. Куда лучше рассмешить или заставить задуматься.
Губастый достает из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, огрызок карандаша и, примостившись на корточках, пишет большими буквами: «Помогите внуку маршала Тухачевского собрать денег на поездку в Москву. Хочу узнать в архиве правду о деде».
Сапог ржет, хлопает Губастого по худой спине.
— Спец! Уважуха!
— Я попрошайничать не буду! — надувает вдруг губы Шуня.
— Че, стыдно? — хмурится Тёха.
— Ага.
— А жрать не стыдно?
— Ну, я…
— Без базара! — Тёха неумолим. — Шагайте!
Они уходят. Мы направляемся к стоянке с фурами. Сизый автомобильный выхлоп висит в воздухе и никуда не девается. Зычно перекликаются дальнобойщики, пронырливые китайцы носятся туда-сюда, как улыбчивые заводные куклы.
Тёха подводит нас к складу, представляет мужику в длинном, почти до земли, пуховике.
— Вот, эти.
— Дохляки, — после секундного осмотра выносит мужик свой вердикт. — Имейте в виду — за два часа фуру не раскидаете — выгоню на хрен!
— Кто это? — шепотом спрашивает Сапог у Тёхи.
— Помощник Чингиса.
— А Чингис тут за основного?
— Типа начальника рынка.
Фура, громадная, как дом, медленно пятится задом к воротам склада. Усатый водила, покусывая изжеванную сигарету, возится с запорами. Распахиваются дверцы — словно разевает пасть выброшенный на берег кит. Внутри — штабеля спрессованного шмотья. На черном полиэтилене упаковок белеют ярлыки с иероглифами.
— Тьфу ты, — небрежно сплевывает Сапог. — Херня какая! Я думал, тут ящики будут неподъемные…
Он расхлябанной походочкой подходит к фуре и тянет на себя один из брикетов.
— Они по семьдесят килограмм, — с иронией говорит ему в спину водила.
Сапог крякает. Я тоже не могу удержать унылый вздох. Мы двое суток ничего не ели. Семьдесят килограмм — это круто. Особенно если учесть, что в фуре двадцать одна тонна шмоток, сработанных быстрыми китайскими руками. Триста тюков-упаковок, закатанных в черный полиэтилен.
— Пятёра, лезь наверх, будешь подавать, — командует Тёха.
— Подаван, блин, — шипит Сапог.
Он тоже хочет наверх, он тоже хочет быть подаваном. Но рациональный Тёха рассудил верно — я слабее и пользы от меня будет больше именно как от подавана.
Берусь за первый тюк. Тяжеленный черный блин, блестящий и гладкий, с явной неохотой отлипает от штабеля. Я спускаю его вниз — на плечи Сапогу.
— Первый есть первый! — хрипит он, подбадривая себя, и, пошатываясь, скрывается за дверями склада.
Второй тюк. Тёха принимает его куда увереннее, чем Сапог. Ну, вроде дело пошло…
После десятого тюка я чувствую, что стало жарко. Руки вот только болят, а так даже и ничего, нормальная работа. Тёхе и Сапогу внизу, конечно, тяжелее, от них валит пар, лица раскраснелись, но они тоже пока не жалуются.
Правда, десять тюков — это всего лишь одна тридцатая всей фуры. Нам еще пахать и пахать, а время идет. Помощник Чингиса пару раз уже выглядывал, чтобы посмотреть, как у нас дела. И, судя по роже, оба раза остался недоволен.
Следующие двадцать блинов идут как по маслу. Крайний к дверцам фуры штабель мы раскидали. Принимаюсь за следующий. Теперь приходится подтаскивать блины. С ужасом понимаю — а ведь по мере разгрузки фуры расстояние будет все увеличиваться и мне придется носить тюки из глубины промороженного железного ящика!
Нет. Не надо об этом думать. Есть «здесь и сейчас», так всегда Бройлер говорил. Вот этим «здесь и сейчас» и надо заниматься. А до «после того» еще надо дожить. В нашем случае это слово — «дожить» — вовсе не фигура речи.
Тридцатый, юбилейный тюк я тащу к дверцам волоком. Руки еле гнутся, спина ноет, сердце гулко бухает в ушах, ноги подгибаются. Сапог, принимающий блестящий блин, выглядит не лучше моего. А ведь мы осилили пока только одну десятую первой фуры! Фур всего три. Что ж я маленьким не сдох, а?
Тёха, злой как черт, орет на меня снизу:
— Шевелись!
Я шевелюсь. Я очень шевелюсь. Так шевелюсь, что падаю, поскользнувшись на металлическом полу фуры.
Подходит мужик в пуховике. В руках у него папка с бумагами. Он несколько секунд наблюдает, как я воюю с тюком, волоча его к дверям, потом сплевывает в грязный снег.
— Работнички, вашу мать.
Как я доживаю до пятидесятого тюка, мне и самому непонятно. Во рту сухо, язык распух, и я его все время прикусываю. Перед глазами плавают красные пятна, руки трясутся.
— Пе… передохнуть бы… — хриплю я Тёхе.
— Две минуты! — кивает он и поворачивается к пошатывающемуся Сапогу. — Не кури!
— Аха… — кивает Сапог и садится, разбросав ноги, прямо в серый сугроб рядом с колесом фуры.
Я ложусь в фуре на пол, смотрю в блестящий потолок. По нему бродят серые тени. Настроение паршивое. Ясно, что в срок разгрузить все эти блины мы не сумеем. О том, что есть еще две такие же фуры, даже думать страшно. Зарабатывать деньги тяжело. Скачок лучше.
Вспоминаю очкастого парнишку из Ульяновска, у которого я отнял сумку и кошелек. Ну и по фиг, что он сиротам и детдомовским помогал. Зато уродоваться не пришлось. Раз, раз — и бабки в кармане!
Собравшись с силами, зову нашего бригадира:
— Тёха-а-а!
— Че?
— Может, ну его? Смотаем в город, скачканем пару раз — и ноги из этой Читы?
Тёха несколько секунд думает, потом отвечает:
— Не. Чуйка у меня. Влопаемся. Давай, вставай.
Чуйка — это серьезно. Если Тёха говорит о чуйке, значит, он уверен. А если он уверен, то переубедить его невозможно. Многие пытались. Ни у кого не вышло.
Ворочая неподъемные блины, думаю о мертвом бомже, что лежит в снежной могиле возле теплотрассы. Наверняка он тоже ходил на этот базар. И вполне возможно, что нанимался на разгрузку фур. И очень может быть, что надорвался тут. И от этого умер. И я умру. Вот прямо сейчас упаду и умру.
— Сколько? — выдыхает вместе с облаком пара Сапог, всунувшись в фуру.
— Шестьдесят три… — так же на выдохе отвечаю я.
— Капец…
Проходит еще несколько минут и мой мозг отключается. Теперь я ни о чем не думаю. Просто — не могу. В голове пусто, словно в разбитом аквариуме. Руки-ноги двигаются, как у куклы. Слышу я только собственное прерывистое дыхание.
И считаю тюки.
— Шестьдесят восемь… Шестьдесят девять… Семьдесят…
— Ну вот что, доходяги! — слышится снаружи властный уверенный голос. — За полтора часа вы не сделали даже половины. Все, идите отсюда. Лысенков! Давай, зови своих гоблинов. Харе им домино ломать.
Пошатываюсь, делаю несколько шагов по фуре и в последний момент хватаюсь за дверцу, чтобы не упасть. Вижу, как на грязные, облупившиеся носки моих ботинок падают темные капли. Одна, вторая, третья… Что за фигня? А-а, это кровь. Из носа пошла. У меня такое уже было пару раз, в детдоме. Медичка сказала — сосуды, переходный возраст. Посоветовала не поднимать тяжести.