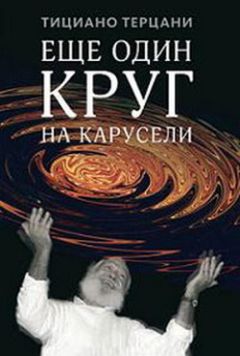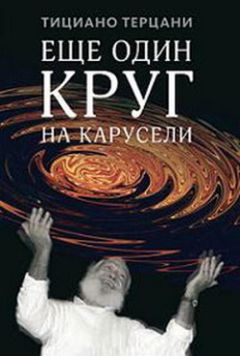Неужели же меня для этого здесь «чинили»? Тогда стоило ли это делать? Более того, я был убежден, что мой рак был порождением именно той прежней жизни, и теперь я решил жить по-другому. Другим стало и мое тело: из моего живота, не очень удачно заштопанного ассистентом хирурга, выпирала большая грыжа, волосы не спешили отрастать, движения стали медлительными. Да и сам я уже был другим: яснее, чем когда-либо, я осознавал, что смертен. Я по-другому думал, по-другому чувствовал. Мои взаимоотношения с миром изменились.
Все это было ясно для меня, но не для других. Мое желание начать новую жизнь означало, что мне предстоит настоящая битва; и будет она вовсе не такой, как минувшие «битвы» — облучение, химиотерапия. Потому что вокруг больного возникает что-то вроде этакого доброжелательного заговора, когда все делают вид, что твоя болезнь — нечто временное, преходящее, а возвращение к прежней жизни — самое позитивное и желанное. Причем заговорщиками выступают все: врачи, родные, лучшие друзья — и все с наилучшими намерениями. Они встревожены тем, что тебя не тянет снова становиться «нормальным», все так или иначе говорят: «Держись, выше голову, вот увидишь, все будет как прежде».
Случилось так, что распрощавшись с Центром, вечером я оказался в гостях у Кофи Аннана и его жены. Один мой старый друг, писавший об Аннане книгу, рассказал ему обо мне и попросил пригласить к ужину, чтобы отпраздновать мое «возвращение к нормальной жизни».
Я не смог отказаться. Вечер был очень приятным, а хозяева радушными и сердечными. Только выйдя из их квартиры на Ист-сайд, я понял, что на самом деле в гостях побывало уже не прежнее мое «я» — не журналист. Вместо того, чтобы задавать вопросы, интересоваться мнением Генсека ООН о том, о сем, я — видимо, из-за долгого молчания — говорил преимущественно сам, временами повторяясь, кружась вокруг одной темы — и так весь вечер.
Я сказал, что он, Кофи Аннан, должен взять на себя миссию вернуть морали место, принадлежащее ей по праву, поставить ее выше политики и экономики. Ему выпал жребий использовать свою трибуну, к которой прикованы глаза всего мира, чтобы заставить человечество услышать голос сердца, а не разума. Миром не могли больше править алчность и личные интересы власть имущих. Нужно же, чтобы кто-нибудь заявил наконец об ответственности иного, высшего порядка, чем ответственность перед семьей, фирмой или страной, а тут его положение было уникальным. Он имел все преимущества: происхождение, образование, цвет кожи и тот факт, что Генерального секретаря избирают только на один срок и ему не нужно будет переизбираться. Сочетание получалось исключительное. Для мира это был счастливый случай. Человечество нуждалось в «великих людях», и все указывало на него.
Мы обнаружили, что оба родились в год Тигра и что скоро нам обоим исполнится шестьдесят. Мы согласились, что это подходящий момент, чтобы сбросить маску и взглянуть сверху на многие вещи. В этом возрасте человек, какой бы ни была его роль в обществе, должен делать то, что справедливо, а не то, что ему выгодно. Еще мы заговорили с ним о смерти. «Как вы думаете, — спросил я его, — хотелось ли бы нам, чтобы когда-нибудь о нас вспоминали как о людях осторожных и осмотрительных? Вряд ли нам по душе такая перспектива». Он от души рассмеялся и доверительным тоном, словно хотел открыть мне большой секрет, добавил, что как раз на этом постоянно настаивают его советники — по их мнению, в первую очередь он должен быть именно осторожным и осмотрительным.
— А вы их разгоните, — сказал я.
Не думаю, что он счел меня сумасшедшим. У меня даже возникло впечатление, что мы с ним поняли друг друга.
Я вернулся домой пешком. Моросил дождь, но я его не чувствовал. И мне было хорошо в своей новой коже.
Всякий, кто любит Индию, вряд ли толком знает — за что. Грязная, нищая, заразная, иногда вороватая и лживая, часто дурнопахнущая, коррумпированная, безжалостная и равнодушная. Но увидишь ее хоть раз — и готово: теперь ты всегда будешь тосковать о ней. Разлука с этой землей причиняет боль. Любовь, она ведь всегда такая: бессознательная, необъяснимая, бескорыстная.
Влюбленному чужды доводы рассудка; он ничего не боится и готов на все. Влюбленный хмелеет от свободы; ему чудится, что он может обнять весь мир и мир обнимает его в ответ. Индия — если, конечно, не возненавидеть ее с первого взгляда — переполняет восторгом, ты ощущаешь себя частью творения. В Индии никто никогда не чувствует себя одиноким, оторванным от остальных. В этом ее очарование.
Несколько тысячелетий тому назад ее мудрецы, риши («видящие»), интуитивно осознали, что жизнь едина, и это открытие, бережно передаваемое из поколения в поколение, — великий вклад Индии в просвещение человека и развитие его сознания. Любая жизнь — это моя жизнь, и жизнь дерева тоже часть единого целого, одна из тысяч форм жизни.
В Индии даже нет необходимости высказывать эту мысль, она — часть сознания каждого человека, она — во вдыхаемом воздухе. И здесь невольно настраиваешься на эту волну. Легко ловишь новые звуки, видишь все в ином измерении. В Индии ты ощущаешь себя иначе, не так, как в других краях. В Индии по-другому и о другом думаешь.
Возможно, так происходит потому, что в Индии время представляется не прямой линией, а окружностью: прошлое, настоящее и будущее не имеют здесь того же значения, что у нас. Здесь прогресс не является целью человеческой деятельности, поскольку все повторяется и любое движение вперед считается чистой воды иллюзией.
А может быть, и потому, что воспринимаемая сущность не считается здесь истиной в последней инстанции. Индия вселяет в каждого, даже в скептика, некое состояние отстраненности, которое делает эту страну такой непохожей на другие, а ее действительность, иногда ужасную, вполне терпимой. Ибо такова жизнь — сочетание несовместимого, она прекрасна и жестока. Потому что жизнь — это также и смерть, потому что нет наслаждения без боли, нет счастья без страдания.
Нигде больше в мире контраст между красотой и безобразием, богатством и бедностью не выглядит столь драматично, вызывающе, почти нагло, как в Индии. Но именно это понятие о неизбежной двойственности всего сущего и побудило индийских «риши» искать в этих противоположностях потаенный смысл; и это осознание действует, как катализатор, на любого приехавшего сюда.
Достаточно раз побывать в Индии, чтобы испытать эту перемену в себе. Прежде всего, здесь ты пребываешь в мире и с самим собой, и со всей Вселенной. В Индии я умиротворен без гомеопатических капель и мой «калейдоскоп» постоянно радует меня своим приятным цветом. «Лекарство» всюду и ни в чем конкретно, просто во всем — в любом пустяке.
«Индия — это опыт, который укорачивает жизнь», — сказал мне Дитер Людвиг в тот день, когда я много лет тому назад приехал в Дели, чтобы окончательно там обосноваться. Потом добавил: «Но это и опыт, который придает жизни смысл».
Дитер — фотограф и мой старинный, дорогой друг — устроил тогда вечеринку, чтобы ввести меня, новичка, в круг уже обжившихся здесь коллег. По-своему он хотел предостеречь меня, но еще и поздравить с решением завершить карьеру журналиста там, где другие ее начинают. Из его «барсати», квартиры с террасой, увитой лианами, о которых он заботился и говорил нежно, как о любимых родственниках, открывался чудесный вид. Купол древней усыпальницы Моголов выделялся на фоне бирюзового неба как утешение для обездоленных, которые роились вокруг. Я знал Дитера с войны в Индокитае, и он намного раньше меня углубился в поиски смысла жизни — даже с риском ее укоротить.
Вернувшись в Дели после стерильных месяцев в Нью-Йорке, я напомнил Дитеру ту его давнюю фразу. Для меня сейчас она была справедлива, как никогда.
Теперь, чтобы мне, перенесшему химиотерапию, прооперированному и облученному, не подхватить какую-то заразу, следовало быть еще осторожнее, чем прежде, и неуклонно соблюдать старые правила поведения любого путешественника в Индии: не пить некипяченой воды; никогда не есть сырых овощей, ничего жареного или тушеного, если не знаешь, на каком масле готовили. Я стал слабым и уязвимым. Но если телу следовало быть начеку, когда речь шла о еде и питье, то моя душа расправила крылья.
Приехать в Дели после Америки было настоящей радостью, как встреча со старой любовью. Я вернулся из мира рассудочного, рационального, безупречно организованного в мир здешний, полуреальный и зыбкий, в котором единственное, в чем ты уверен, — это в том, что нельзя быть уверенным ни в чем.
В Индии действительно ни в чем нельзя быть уверенным: телефонная линия почти всегда безмолвствует (поэтому их, по возможности, стараются иметь, как минимум, две); электричество надолго отключают; факс постоянно ломается из-за перепадов напряжения, вода может отсутствовать во всем доме, но хлестать струей рядом, в общественном туалете, потому что кто-то стащил кран. Но в Индии ко всему привыкаешь, все принимаешь; проникаешься логикой, согласно которой ни в чем нет особого драматизма, ничто не имеет серьезного значения. Уже все случалось в прошлые времена и будет бесконечно повторяться и повторяться. Индия остается сама собой, и это по-своему умиротворяет. Индия заставляет чувствовать себя простым смертным; заставляет тебя понять, что ты один из многих статистов в большом, абсурдном спектакле — а мы-то, люди Запада, воображаем себя в нем режиссерами, которые решают, что будет в финале.