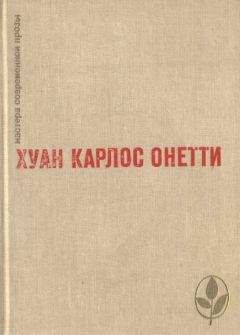Я ходил по комнате, обращая то один, то другой бок к плоскому силуэту в розовую и зеленую полоску. Когда я подходил к двери или к балкону, ругательства разбивались о мою спину, когда шел обратно, они разбивались о мою грудь. Воздух комнаты я понимал, как понимают друга. Я и был блудным другом этому воздуху, я вернулся к нему после целой жизни и пытался отпраздновать возвращение, перечисляя, сколько раз в прошлом я ощущал его и не решался вдохнуть. Кека задыхалась, замолкала, мешая рыдания с хрипом, ругань с покаяниями. Неустанно и грозно обличала она Арсе, жизнь, себя самое, призывая то и дело на помощь внезапные откровения. Она судила мужчин и женщин, проводила немыслимые параллели, пересматривала старые взгляды на жертву и любовь и, принимая и отрицая необходимость опыта, утверждала новый образ жизни, уничтожала границу между добром и злом, снова и снова кончая своей бунтарской фразой: «С ума посходили!» Я остановился у стола, налил себе джину.
— И чтоб я все отдала за такую размазню! Да ты родился рогатым. Друзей, видите ли, иметь нельзя! С тобой, что ли, с одним? — Она говорила про Арсе; а я пил у балкона, тайно разглядывая из-за штор почерневшее небо, прямоугольник ночи, на котором можно было различить и пространство, и прошлое, и тихую надежду. Кека за моей спиной рыдала, чтобы отдохнуть, и громко сморкалась.
И это ведь не конец. Надо помнить: когда она выговорится, мы будем мириться. Эрнесто не придет; я никогда не думал, что он вернется. Я видел несколько звезд и уличные огни; шум, подобный шуму ветра в ливень, остановился на балконе. Кека разбила об пол рюмку или пепельницу. Я слышал ее смех и шаги, она шла к кровати.
— Рогач, — сказала она и повторила, и мне пришлось обернуться. Она улыбалась. Между ее грудями я увидел графин с джином. — Рогач, рогатый… Рогатенький!
Она была довольна, ослабела, переводила дух. Перестав смеяться и говорить, она пила из графина. Я начал одеваться, насвистывая «La vie est breve» и вспоминая жалкое, немыслимое лицо Мами, закинутое назад, чтобы настичь прошлое и отдохнуть в нем. Кека болтала, смеялась, чмокала, отрываясь от графина.
— А теперь рубашку, рогатенький. Галстук не забудь, рогатенький. Пиджак поправь, рогатенький. Не хочешь знать, сколько раз я тебя обманывала? Ну, теперь поеду в Монтевидео. Там я тебе еще не изменяла. Кликну его, и поедем, прямо завтра.
Дойдя до двери, я услышал, как она бежит, и падает, и плачет словно спросонок.
— Прямо завтра, — повторила она. Щекой она касалась ковра, голые ноги разъехались, рука держала графин, чтобы не пролилось. Она плакала, пуская пузыри. От ее скорченного тела повеяло воздухом комнаты. Я медленно подошел, уже в шляпе — револьвер оттягивал брючный карман, — и сел на ковер, чтобы посмотреть на покрасневшее лицо и дрожащие губы.
— Завтра с ним и уеду. Завтра помру. А, чертов день! Сейчас вырвет… — бормотала она куда-то себе в руку.
Я взял у нее графин, поднял ее, толкнул к кровати, она упала навзничь. Ненависть умерла, я знал, осталось одно презрение, ведь мы с этим Арсе могли убить ее, ведь все было как нарочно подстроено, чтобы мы ее убили. Склоняясь над искаженным, бормочущим лицом, я измерил свою радость и силу и чуть не улыбнулся. Лицо дергалось и морщилось на фоне простыни. Могу убить — и убью. Покой был тот самый, который я испытывал, овладевая Гертрудой, когда ее еще любил. Та же полнота, тот же поток, уносящий с собой все вопросы.
Я пошел в ванную, намочил губку, вытер Кеке лицо, глаза и рот, пока она не очнулась и не присела, пошатываясь. Потом я молча подождал, все глядя на нее и придерживая коленом ее шатающееся тело, пока она не вспомнила слово «рогач» и не принялась оскорблять меня. Тогда, постепенно себя распаляя, я стал бить ее по лицу, сперва ладонью, потом — кулаками и, все придерживая ее коленом, дождался того, что она как-то странно, по-детски заплакала, а изо рта у нее потекли две жалкие струйки крови.
Выйдя, я даже не позаботился о том, чтобы спуститься в лифте и бесшумно вернуться по лестнице. Дома я выпил стакан воды и бросился на кровать, твердо решив думать только о том, о чем можно думать. Я знал, что должен ее убить, но не вправе уточнять время. Ночь я провел, прикидывая, отождествит ли меня кто-нибудь с Арсе, и вспоминая все, от Дня святой Розы, когда Кека переехала в эту квартиру. К утру я успокоился и уснул. На следующий день я пошел к ней и подарил ей духи. Губа у нее была рассечена; достоинства осталось ровно столько, чтобы оттягивать примирение, бросая короткие фразы о том, что она хорошая, я плохой, а жизнь ужасна.
В конце недели мы отбыли в Монтевидео, она и друг ее самолетом, а я пароходом. Встретились мы утром неподалеку от порта, и она заставила меня положить ей голову на грудь, чтобы убедиться, что она надушилась моими духами. Робея перед официантами и посетителями, я вдыхал запах ее висков и платья, не смея подозревать, что с некоей минуты мне придется запомнить его навсегда. Запах был спокойный, не связанный с нею, не напоминающий ни о каком цветке.
Элена Сала и Диас Грей завтракали в беседке с хозяином гостиницы, тучным человеком за пятьдесят, у которого дышали самодовольством и глазки, и красноватые щеки, и обожженный солнцем подбородок.
— Я очень беспокоюсь, — говорила Элена, — я знаю, в каком он был состоянии…
Хозяин не ведал, где беглец. Он говорил о нем, улыбаясь и хмурясь, ибо понять ничего не мог, хотя испытывал любопытство. Отведав маринованной рыбы и выпив бокал вина, Диас Грей обнаружил, что хозяин — старый Маклеод, только хуже выбритый и хуже одетый, победней, посильней (шея не так неподвижна) и, должно быть, почестней.
Сам он сидел в кресле, стараясь остаться в стороне, и смотрел, как хозяин движется (тот двигался бодрей Маклеода), слушал, как он говорит (прямее и смелее), узнавал голубые водянистые глазки. Старик Маклеод в рубахе с расстегнутым воротом, седой и краснолицый, сидел перед ним в романтической рамке глициний.
— Конечно, помню, — сказал он, поковырял в зубах, осмотрел зубочистку, подождал и начал снова: — Не описывайте его, я прекрасно помню. Так и вижу, как он лежит на песке, сидит на веранде, гуляет вон там вот. Говорить он почти не говорил, я его прозвал «лунатиком». Нет, ничего особенного не было, просто такого не забудешь. И потом, мы не совсем обычно познакомились, увиделись в первый раз. Ничего страшного, сеньора, вы не волнуйтесь, не глядите на меня так. — Улыбка была такая же, как у Маклеода, когда он просил прощения за то, что люди страдают, и пытался убедить, что жить все-таки стоит, жизнь хороша, свет буквально кишит бодрыми Маклеодами, которые знают секрет и всегда могут помочь, для чего мы и родились. — Постояльцев почти не было, хотя погода становилась все лучше. Приедет компания на уик-энд или парочка, все больше из Санта-Марии. Надо ли говорить, но, поверьте, эти швейцарцы — совсем уже не те, что основали колонию. Надеюсь, я не совру, если скажу: был понедельник, все разъехались, и я присел поглядеть на дорогу, на суденышки, которые решились плыть по реке. Одно из них проплыло мимо, и я подумал, что сегодня уже никто не приедет. Мне это безразлично, нас лето кормит! Конечно, если приедут в другой сезон, я тоже рад, врать не буду. — Он не улыбнулся, только протащил отсутствующий простодушный взгляд по ним и по длинной пустоши. — Значит, сижу я там, где вы сегодня утром сидели, — он без насмешки взглянул на врача, давая понять, что все понял и с этим справится, — мне хотелось спать, я люблю вздремнуть после обеда, но сон не шел и не шел. Я чувствовал, что кто-то явится, то ли парочка, то ли один человек, но кто-то да придет от берега, по дороге. Нет, не из-за выгоды, что мне один постоялец?! А пришел ваш друг. Конечно, вы его и сами знаете, но таким, я думаю, не видели. Ему лет двадцать с небольшим, верно?
— Двадцать два или двадцать три, — тихо сказала Элена, вежливо, даже искательно улыбаясь одними глазами, словно боялась вставить слово.
— Вот и я говорю: двадцать с небольшим. Я много поездил, много видел, любой человек мне не в диковину, и уже давно я не пугался. Но чтобы так одевались, как этот тип… Мне смешно, когда тратят время на костюмы, на галстуки — словом, на моду. Но тут другое. Увидел я его и подумал: прямо как будто оделся на свиданье или собрался на праздник, или погулять по столице и вдруг очутился там, на дороге. Грязный, конечно, пыльный, все же плыл по реке и шел от Санта-Марии. Правда, ветра не было, но лошади, машины тоже пыль поднимают. Значит, сижу я на веранде, а друг ваш идет так это легко, руки в карманы, багажа нет, ни пакетика, ничего. Спина прямая, и голову держит прямо. Думаю — мимо пройдет, только не пойму куда. Или он спятил, или мне это снится.
Может, хозяин что-то заподозрил, а может, вообще никому не доверял, но, положив в рот сливу, он подчеркнуто склонился к даме, которая улыбалась, изображая нежную насмешку, и не глядела ему в глаза.