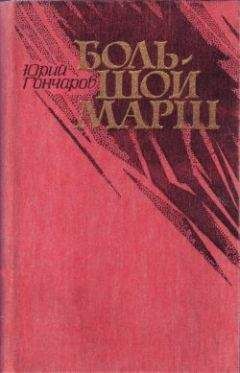– Что еще спросишь меня, мил человек? – с улыбкой произнес постоялец. Он дожевал последнюю картошку, вытер рот, обмахнул широкую бороду, отряхнул руки – ладонь о ладонь.
– Церква, вроде… слыхал я… – с заминкой проговорил старик. – Народ, вроде, посещает…
– Верно. Приходит народ. На то и церковь, чтоб люди в нее ходили. Вот как раз я туда иду, приготовления к службе надо сделать. Пойдем со мной, коли есть нужда.
Отец Поликарп встал с табуретки. Роста он оказался небольшого, но крепкого сложения и еще в силе, это было видно, когда он одевался, натягивал на себя черный ватник, а поверх – рыжий деревенский полушубок с сильно вытертой внутри шерстью.
Женщины остались в избе.
– Мы придем, – сказала хозяйка вслед мужчинам.
Отец Поликарп повел из сенец не в уличную, а в дворовую дверь.
– Тут пройдем, задами. Меня-то знают, а ты, дедушка, посторонний. Поменьше глаз – так-то лучше…
Со двора он вышел на тропу через деревенские огороды и зашагал по ней скоро и уверенно. В полушубке, сбитых сапогах, облезлой шапке-ушанке, со своей чуть раскоряченной валкой походкой, отец Поликарп смотрелся обыкновенным деревенским жителем. У старика пропала перед ним робость.
– Вот вы служите, церкву открыли… – сказал старик, задыхаясь от уторопленного хода. – Вам такое указание откуда-то? Или по собственному разумению?
Священник сбавил шаг, чтобы идти вровень со стариком.
– Есть указание у меня, а как же! Голос сердца моего, разума. Он мне место мое в данных обстоятельствах указывает и на деяния меня направляет. Я сан свой помню, не отрекся, он на меня по жизнь мою возложен. А сан мой таков – всегда при людях наших русских быть. Во всех их радостях человеческих и бедах. И у купели новорожденного, и у одра умирающего. Разделить веселие и в горе утешить и на подвиг терпения и мужества благословить… Как же мне долг свой не исполнить в беде такой великой, всенародной?
– Наша местность давно уж без церквей… А вы где-то священствовали?
– Нет, лет уж тому пятнадцать, как оставил я церковную службу. Не по своей, разумеется, воле… Жизнь моя после этого сложно происходила, многообразно. Пришлось и потерпеть за свой сан… А в самый канун войны я на кирпичном заводе служащим состоял, по счетной части. За прошлое меня уже не винили, получал зарплату, даже премии, как хороший работник. Семьи, к сожалению, лишился еще в трудные свои годы. Расстались, чтоб облегчить им участь. Ну, а потом уже не соединились, связь оборвалась… Существую в одиночестве. Мне уже на седьмой десяток. В такие годы одному не просто… Но люди помогают. Коли сам с добром – и тебе добро… Сюда, налево, тут дорожка, замело ее… Давайте-ка я вперед пойду…
Сквозь сумрак и снежную порошу расплывчато темнело длинное строение.
Отец Поликарп вдруг резко приостановился, рукой задержал и старика.
С минуту они стояли, вглядываясь.
– Показалось… – облегченно сказал священник. – Думал – полицаи. Дня без них не проходит. Комендатура в Макарове, пять верст. Напьются для храбрости – и по окрестным деревням шарить…
– Все ж таки боитесь их? – сказал старик.
– Я им неподвластен. Я служитель культа, с разрешения немецкого коменданта, при Советской власти потерпевший. Полицаям все это известно. Но ведь если бы они люди были, а то отпетые башибузуки. Половина уголовников. Им человека убить – и на секунду никто не задумается. Иудино племя. Каждый уже счет потерял своему душегубству. Но отплатится им за злодейства их сторицею!
– Кто ж их покарает, басурманов! – с тяжким удручением произнес старик. – За ними сила какая!
– Постигнет кара. Господь не оставляет такие проступки без воздаяния. Они врагам иноземным предались, кровь народа своего проливают. А это – как мать свою, которая во чреве носила и на свет родила, молоком своим вскармливала, предать и истреблению подвергнуть…
Длинное строение оказалось колхозной скотной фермой. Двери были распахнуты, висели на петлях криво. Внутри было безжизненно и пусто. Неподалеку тянулись другие сараи – колхозные амбары. Они тоже выглядели ограбленно, мертвое оцепенение стыло в их пустых стенах.
Бывшая церковь стояла без колокольни. Ее можно было бы не узнать, так перестроили здание, приспосабливая под мельницу, если бы не узкие окна в ржавых решетках, широкие, кованые, округлые вверху двери на засовах. За окнами густела угрюмая тьма, угадывались какие-то колеса, цепи, механизмы.
Священник оглянулся по сторонам, в этих его почти непроизвольных движениях была привычная настороженность, готовность к опасности. Достал из кармана ключи, отпер замок на дощатой пристройке к зданию. Внутри, в потемках, отпер еще дверь. Возгорелась свеча. Старик, вслепую двигавшийся за священником, разглядел, что находится в тесном помещении с кирпичными стенами, высоким сводчатым потолком. Прежде, вероятно, это был церковный придел с небольшим алтарем, а при мельнице тут была просто кладовка или, быть может, контора с книгами учета о помоле зерна. Штукатурка со стен осыпалась давно, оставив голый кирпич; для опрятности он был выбелен известкой. На стене, противоположной входу, висело десятка полтора мелких икон, таких черных, что едва проступали нарисованные на них лики. А две в центре были покрупнее, в белых металлических окладах. Перед ними горело по лампадке – крохотно-бисерными, сине-желтыми огоньками.
– Убранство от жителей, что у кого нашлось, – пояснил священник, ставя свечу на аналой. – Но суть не в убранстве, не в красоте внешней. Господь слышит обращенные к нему слова, откуда бы они ни исходили. Из роскошного чертога и убогой хижины, из глубокого подземелья и сквозь тюремные запоры…
Позванивая связкой ключей, священник отпер в глубокой нише еще одну неприметную дверь и, наклонившись, проскользнул в нее, оставляя старика наедине с иконами. Очевидно, он хотел сделать те приготовления, о которых говорил, одновременно давая старику возможность в одиночестве помолиться, совершить то, что повлекло его в церковь.
Оставшись в тишине, старик некоторое время стоял на своем месте, щурясь от свечного пламени, затем приблизился к иконам.
На одной из больших была матерь божья с младенцем в руках. Она смотрела кротко, женственно и печально. Так же кротко, незащищенно смотрел с ее рук новорожденный мальчик. Мать, казалось, ведала, уже наперед знала, какая жестокая судьба ожидает ее сына в мире. У старика подкатила под сердце жалость от кротких женских глаз, смотревших с иконы и как бы просивших защиты от зла себе и своему младенцу. Страдалица, безответная и покорная, с сыном, которого никто не защитил, не смогла защитить и она сама… Что может сделать она сейчас в земном мире с таким разгулом злодейства, чем помочь людям, сама нуждавшаяся в их помощи, так похожая на тысячи матерей вокруг, в городах и селах, лежащих в руинах, черных от дыма пожарищ… Такие же малые, испуганные дети у них на руках, а обвешанные оружием немцы сожгли их дома, отняли у них еду. А сколько убили – вместе с детьми бросили во рвы, ямы… И всё, что они могут в ответ, эти матери, – только смотреть на своих мучителей вот так же, с глубоким страданием в глазах, с бессильным укором… Матерь божья, матерь человеческая… Ни восстать ей не дано грозно и мстительно, ни проклясть угрожающе, чтоб охватила смута и дрожь полчища врагов, чтоб остановили они поднятое свое оружие, убоявшись содеянного, справедливой расплаты…
Старик перевел глаза на другую икону и словно бы увидел самого себя – по дряхлости и преклонности лет. Николай Угодник. Лик темный, от долгожития коричневый, волосы – белые, ниспадающие. В глазах – добро и внимание, готовность всех выслушать и каждого понять. Но что он один, такой ветхий и слабый, что его сила перед такой несметной ордой, ее грохочущим оружием! Сколько и таких стариков убили они на своем пути – на порогах хат, изб, слабыми своими силами пытавшихся защитить свои дома, свои семейства, тоже бросили во рвы – с раскинутыми руками, беловолосых, залитых своей и чужой кровью…
Безнадежное чувство, впервые такое затопляющее, росло внутри старика, отнимая и вконец руша те крохи светлой веры, что, несмотря на все, еще держались в нем. Колени его дрожали, мелко тряслась голова, слезы сползали по сухой коже изможденного, стянутого морщинами лица.
Надо было все же что-то произнести, пусть и его услышат там, куда возносятся голоса всех, кто молит о заступничестве и избавлении. Но старик не помнил ни одной молитвы, он давно уже забыл их и не повторял ни вслух, ни про себя, а те слова и чувства, что были в нем, не складывались в связную речь. И что говорить, куда донесется его голос, кто будет заступником, избавителем, если такое опустошение в народе и армии и нет среди живых и его Ивана.
Старику вдруг явственно и беспощадно пришло это в сознание. Он все время думал о своем сыне, как о живом, постоянно твердил себе это, гнал дурные мысли, а сейчас, будто это была точная, дошедшая до него весть, ощутил холодную пустоту. Нет Ивана, нет, это так, давно уже нет, второй год, с первых же дней войны… А то бы разве случилось такое – чтоб так далеко прошли враги, одержали такие победы! Разве допустил бы до этого его сын, будь он живой и в руках его оружие, чтоб у родного дома убили его мать, спалили всю его деревню, чтоб отец его оказался у немцев в плену, всего лишенным и все потерявшим, бездомным и сирым бродягой, в живые мощи источенным голодом…