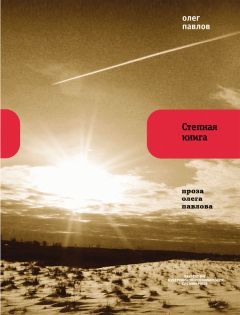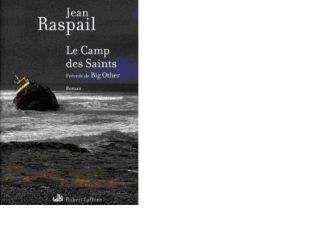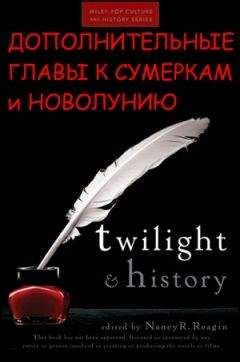Он растормошился и дотащился сам, спасая не себя, а смолоченную сапогами собаку. Овчарка пожила еще до утра. Гнушин то плакал, то смеялся, приговаривая: «Труженица моя. Одна ты знаешь, чего делать. Одна ты, умница, делом занята.» — и укачивал на руках. Но на следующее утро он уж не смеялся, как блаженный. Он подходил к овчарке, которая больше не радовалась его приходу как выслуженной награде. Тягостно оглядывал — и снова ходил повсюду неслышно, крадучись. После завтрака он вернулся к ней с миской. Овчарка лежала смирно на боку. Гнушин поставил перед миску солдатского супа. Погладил строгую гладкую морду, и тогда-то увидал, склонившись над ней, что из пасти вывалился, как флажок мертвый, алый язык.
То, что сотворилось в считанный месяц с Гнушиным, еще долго приписывалось его хитрости, его же подлости как человека. Командир с того, как спровадили овчарку хромую его на тот свет, не мог слышать собачьего лая. Стоило гаркнуть где-то лагерному псу, как Гнушин сгибался, приседал, затыкал уши — и не двигался. Над ним даже стали потешаться, нарочно, раздразнивая псов: швырнут в самую их ватагу жратвы, а они до издыхания лаются, грызутся. Зная, что Гнушин не жилец, от него все ждали избавиться как от командира. Но его не понизили, не перевели в другое место, а подрубили на корню. Весть, что уволили из войск, не застала Гнушина врасплох, но даже не поранила. Он собрал вещички в чемодан. И пропал. Запомнился же он в последний раз таким, каким все его знали и всегда: стойко молчаливо выслушивал что-то от нового командира, молодого, годящегося ему в сыновья лейтенанта, а глаза, немигающие, стеклянистые, глядели голодно в никуда.
С полудня солдат знал, что совершили они с майором преступление; что никому они в этот раз не помогли, да и в другие разы, когда ездили будто б для дела, — неизвестно, что это были за дела. С самого утра майор почти не разговаривал с ним, был напряженным, хмурым. Буркнул, что надо забросить груз, «помочь одному хорошему человеку», но утаил, какому и что ж было затарено в продолговатом, будто гробик, защитного цвета оружейном ящике.
На пропускном пункте их, как обычно, часовые не проверили. Но ящик ненароком и был укрыт майором от чужих глаз; не иначе — от глаз часовых. Он сказал солдату рулить в пригородный район, но не по трассе, а через долину, по старой, рассыпавшейся в прах дороге. В покинутом пустынном месте, на подъезде к большому тамошнему селенью, ждала подальше от обочины черная богатая запыленная машина. Майор грубо, нервно приказал тормозить, с минуту отсиделся, огляделся, и пошагал разговаривать с вышедшими навстречу людьми. Они сошлись, не здороваясь. Разговор их длился минут пять, после чего двое нерусских парней влезли гориллами в командирский «газик» и, не глядя на солдата, выволокли наружу тяжелый, подъемный только для двоих ящик, схороненный на заднем сидении под бушлатами. Майор зябко наблюдал за ними со стороны, будто плыла тяжелогруженная баржа, и когда они бесшумно прошли мимо, пошагал и сам в машину; спокойный, умиротворенный, сказал поворачивать обратно — домой, в гарнизон.
Он уже не поверил тому хмурому серьезному виду разведчика, с каким майор глядел в даль дороги. Что в ящике — автоматы, солдат нечаянно обнаружил сам. Прошло с месяц, как он раскопал на чердаке особого отдела этот ящик, но скрыл свою находку: смолчал по привычке, понимая, что майор и хранил зачем-то его на чердаке. Ключом от чердака, забытым майором однажды в отделе со всей связкой, он завладел без всякой подлой мысли. На чердаке, до того как майор отчего-то навесил там замок, солдат прятал нехитрое, нажитое в гарнизоне добришко. Самодельный нож, ложку с котелком, брюки и рубаху для гражданки — обноски, может, и сворованные в городе тем ушлым медбратом, что сменял их ему на сухпай.
О находке спустя время легко позабыл — странный ящик всплыл утром этого нового дня, будто б утопленник — но сегодня он уже отчаянно не понимал; кто и когда смог затащить ящик на чердак мимо его глаз, а потом также незаметно спустить к утру на нижний этаж, изготовить к отправке; почему увозили они ящик с оружием из гарнизона так скрытно, как если б воровали; откуда и для чего получил майор такой приказ? Вымуштрованный самим же майором, он в приказе видел такую крепость и такой непререкаемый закон, что, казалось, стоит хоть на шажок отступить, сделать что-то самовольно, как тотчас обрушится жизнь. Откроется неодолимое, гнетущее — воняющая парашой болотная толща времени. Тьма.
Суд, тюрьма, лагеря, этапы — были для него чем-то навроде того света. Он их повидал со стороны, когда снаряжал особый отдел в ту преисподнюю таких же солдат, но осужденных, проклятых. Ему и тогда было чудно, когда вели их под конвоем, что они еще живые. Матерятся, дышут, хотят жрать, молят конвоиров о куреве. С полсотни таких конвоировал он на отправку, но ни разу так и не повидал, как хоть один из них выходит на свободу, возвращается, обретает облик человеческий, жизнь… Но майор был его начальником и главным в жизни-то человеком, которому служил он даже не как солдат, а как раб.
Год тому назад он призвался на службу, да угодил так далеко от родины, что свои места в глубинке уже только мерещились. Неизвестно за какие грехи, оказался он служить в пропащей на азиатском отшибе бригаде, что под охраной десятка вечно пьяных офицеров тянула никому не нужную нитку дороги. И не рота и не служба называлась «командировкой», туда командировали отбракованных солдат для этих каторжных безрассудных работ, стоящих намертво в планах у начальников, может, тоже им спущенных сверху. Жили в голой степи, в палатках, питаясь плесенью да гнилью, и самые живучие добывали себе консервы. Дорогу прокладывали по метру в день; верно, списывали на нее где-то немалые деньги, воровали стройматериал, так что работать в командировке было уж почти нечем да и некому. И солдатня, обреченная на эти работы, и офицеры оказались сцепленными одной участью. Из обреченности и порядки в бригаде завелись особые, каких не бывает даже у зверья.
В бригаде возрадовались новобранцу, как если бы женщине — полнотелому, белокожему — когда его привезли к ним. Самые живучие из солдатни, те, кто правил всей этой полуголодной диковатой толпой, отобрали его к себе в палатку и посулили в день по банке тушенки да свободу от работ. Хотели с ним договориться по-доброму, жалея поуродовать. Он и не знал, что так бывает, и не понимал, чего от него хотят, рождая у них радостный клацкающих гогот. За это простодушие его не тронули в первый день, но на другой затеяли драку. А он был крепок, отбился, так что стали бояться нападать на него даже оравой. Он ложился на нарах в чем работал, в сапогах и в бушлате, и не смыкал глаз, что ни ночь готовился к драке, сжимая на груди заточенный железный штырь арматуры. Понадеялся на свои силы, а их у человека есть про запас только чтобы выжить — из пут вырваться.
От многодневной бессонницы он послеп, ослабел, и однажды потерял сознание. Для верности оглоушив, тело перенесли в палатку поукромней и делали, что хотели. Очнулся он от ледяного холода. Голый, с банкой тушенки в окостенелой руке. Толком ничего не помнил. Собрал вокруг, будто б наскреб, клочки тряпья, что содрали с него. Обрядился в те клочья. Передохнул. И пошагал — убивать, сам синюшный весь да неживой. Громил в беспамятстве всех, кто попадал под руку. Потом очутился в руках штык-нож. Бросился наружу. Побежал по дощатым мосткам вдоль палаток. Опомнился уже в одиночестве, когда все куда-то пропали и в палаточном лагере только гулял ветер. Валялись кругом бездвижные безоружные тела в лужах крови. И все руки его были вязки, черны той холодеющей чужой кровью, похожей на смолу. Начальник бригады был пьян. Он долго тормошил его, мычащего, что малое дитя, чтобы сдать себя в его власть, под арест. Даже тогда он не подумал бежать, а хотел почему-то суда. Но ходить в одиночестве на свободе, пугая одним своим видом, пришлось ему еще долгих три дня. Столько надо было времени, чтобы добраться на командировку следователю и конвою из гарнизона.
Приехал сам начальник разведки — майор особого отдела, как было ему, верно, тошновато ездить; в такую глушь, на грузовике с отрядом спецроты, наводить порядки в разложившейся бригаде. Солдат, что устроил резню, был в мыслях майора не живей трупа. Он ехал, чтобы забрать походя этот труп, как и трупы двух безвестных — зарезанных в бригаде. Командировка была проказой для всего боевого соединения. Но происходящее в ней надо было терпеть, как нельзя было прекратить прокладывать дорогу-призрак и расформировать бригаду. Желая того или нет, майор должен был скрыть следы происшедшего, смолоть в меленький порошок все тамошнее зло и пустить по ветру.
Под штык-нож попали двое из калмыков. Чтоб схоронить без шума чабанских этих детишек, долго думать было не надо. Народец такой, что не посмеют там у них вякнуть. Родня их и по-русски не прочитает. Хоть без голов закатай в цинкачи. Майор организовал. Нагнал солдатни, нахлестал по мордам, чтобы пробудились от спячки, и вот уж сготовил ловкую ложь: что те двое калмыков не соблюдали технику безопасности. Задавило их на работах, несчастный случай, не там стояли, да и все.