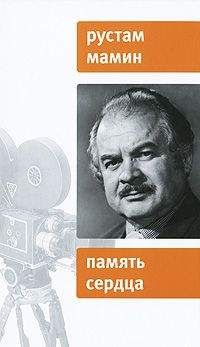Так и шла череда его дней, бессмысленная, как численник.
«Эй!» − окликнул он раз сгорбленного гнома, в котором едва узнал одноклассника. Но тот прошёл мимо, опустив глаза. После этого Авессалом отключил мобильный, по которому звонили, настырно любезничая, только рекламные агенты. И окунулся в одиночество. К этому времени он уже взял обратно фамилию отца, став Авессаломом Стельбой, чтобы, как он всем объяснял, всю жизнь проносив чужое имя, хотя бы умереть под своим, тяжело кряхтел, протискиваясь между запрудившими двор машинами, стараясь не задеть дорожные зеркала, и, будто не видя в них себя, молился о том, чтобы умереть в добром здравии, ещё надеялся, что жизнь, как подсолнух, повернётся к солнцу, не в силах смириться с бездействием. Но временами его озаряло. «Неправильно жил, раз никто не любит, − сморкался он в засаленный платок. — А без любви на свете делать нечего». Вечерами, как когда-то Марат Стельба, надеявшийся встретить его во дворе, он подолгу сидел в беседке, слушая щебетанье молодёжи, думал, что для того, чтобы найти общий язык, нужно забыть свой, жадно курил, сплёвывая между расставленных, как у кузнечика ног, и всё поглядывал на свой подъезд, точно ожидая, что из него вот-вот появится его отец.
Заспанный, чернявый продавец, который снабжал численниками ещё Марата Стельбу, сидел, как ворон, на стуле, таком высоком, что казался под потолком. Бормоча, он водил по страницам, делая ногтем пометки, и очки сползали на горбатый нос. Протиснувшись в дверь, Авессалом Стельба вытянул шею, пытаясь заглянуть ему через плечо. Но у продавца и на затылке были глаза. Он захлопнул книгу, сунув её подмышку.
− Что-то интересное? − как пойманный за руку вор, смутился Авесалом.
− Да так… − неопределённо хмыкнул продавец, повернувшись боком. «Краткий курс ада» − разглядел обложку Авессалом. Продавец спрыгнул со стула, как курица с насеста, и забарабанил по нему какую-то польку.
− Что угодно?
− Мне бы численник.
− Есть свежая книжка, − вдруг засуетился продавец. Пошарив по полкам, он извлек потрёпанную рукопись, а из широченного кармана — ржавые ключи.
− Извините, мы закрываемся, − затараторил он, подталкивая Авессалома к выходу. — Берите, не пожалеете. И, вручив книгу, стал вешать замок.
«Авессалом Люсый был молод и ершист. По этой причине в семье его считали паршивой овцой. «Мать от слова “жрать”, отец от слова “триндец”…» − огрызался он. Но одной рифмой от близких не отделаешься, и однажды он ушёл из дома», − прочитал Авессалом в первом абзаце. И дальше уже не мог остановиться. Это была повесть о его одиночестве в квартире отца, неудачном браке и позднем прозрении. Ибо после смерти отца никто больше не думал об Авессаломе, который давно привык жить рядом, но быть за тридевять земель.
«Теперь он молился о том, чтобы умереть в добром здравии, ещё надеялся, что жизнь, как подсолнух, повернётся к солнцу, не в силах смириться с бездействием. Но временами его озаряло. «Неправильно жил, раз никто не любит, − сморкался он в засаленный платок. — А без любви на свете делать нечего», — ёрзал в кресле Авессалом, и сердце колотилось у него в пятках. — Мучаясь бессонницей, он засиживался до рассвета, слушая громыхавшие трамваи, сосредотачиваясь на мыслях, которыми заслонялся от себя. Он всё чаще разговаривал с отражением в зеркале, так и шла череда его дней, бессмысленная, как численник…».
Авессалом жёг глазами страницу за страницей, воскрешая в памяти свою историю, читал о том, как бесцеремонно его оставили домашние, как с не меньшей бесцеремонностью он сам расстался с отцом, которого обнаружил только мёртвым, с головой, упавшей в тарелку супа. С каждой строкой его прошлое приближалось к настоящему. И вот он уже во второй раз сегодня увидел обложку «Краткой истории ада».
«Берите, не пожалеете», − предлагала себя книга.
Однако осторожный человек подставляет ветру только одно ухо и знает, на какой булыжник в мостовой не стоит наступать. Знать будущее, значит, уже прожить его. И Авессалом не стал читать дальше. Вместо этого он с таким ожесточением захлопнул книгу, что вздрогнул, как от выстрела. «Какой, однако, кошмар», − проснулся он за столом с подложенными под щёки кулаками. А потом ещё долго сидел, уставившись в стену, и вся мировая загадка сводилась у него к одному: как ужиться с чёрными дырами, которые не делятся даже мыслями? Он грыз от напряжения ногти, но ответа не находил, и чем глубже погружался в одиночество, тем меньше ему хотелось кого-либо видеть. Теперь он понял, почему, опустив глаза, прошёл мимо одноклассник.
Дождь, дождь. Стучал по стеклу, барабанил по крыше. Всю ночь. «Смерть во сне длится недолго, − вздыхал Авессалом, чувствуя, как его сердце колотится о подушку, − не то, что наяву». Просыпаясь, он ворочался до тех пор, пока не сбрасывал одеяло, а потом лежал, вперившись в темноту. Он вспоминал длинные, как саги, ресницы своей жены с поплывшей при расставании тушью, и его душили слёзы. В такие минуты ему открывалась правда, и он понимал, что выдуманная им сейчас жена с длинными ресницами и чувствительным характером не имела ничего общего с той торговавшей собой на углу девушкой, которую он путал с сестрой-близняшкой, имя которой давно забыл, что она была той, которой не было — спасательным кругом в море его безумия. Прислоняя ухо к раковине, мы слышим не шорох прибоя, а собственное ожидание, и Авессалом выдумал её от боли и одиночества. Кирпич за кирпичом — вокруг его жизни росла глухая стена, а «собачка» на его замке была опущена навечно. Он видел, что уже отслужил, не приступая к службе, и его выбросили, как стоптанный башмак, у которого нет даже пары. В такие минуты Авессалом Стельба вскрикивал, будто ему вправили застарелый вывих, и чувствовал себя тем, кем был на самом деле — разбитым ревматизмом стариком.
Первый домоуправ, Савелий Тяхт, сжёг свои записи, и второму − Нестору пришлось восстанавливать их по памяти. А третий − Лука, листая долгими зимними вечерами домовые книги, их переписывал. Началось всё с матери, ненависть к которой он вылил на бумагу, искажая её биографию до тех пор, пока однажды не превратил её в мужчину. Александр Мартимьянович Чирина, без определённых занятий, при всех своих талантах был обделён главным — найти своё место в мире. «А что ты сделал для искусства?» − язвительно спрашивал он художника, жившего с ним на этаже, но за этим стояла тайная зависть. «Больше, чем искусство для меня», − благодушно вздыхал тот, обводя рукой убогую обстановку. И Чирина скрежетал зубами. «Придётся стать твоим меценатом», − раз предложил он в подарок несколько тюбиков краски. Поблагодарив, Ираклий Голубень положил их на мольберт, а к вечеру умер. Краски были ядовитые. Иногда Лука изменял события, иногда их последовательность, так что смысл произошедшего, вывернутый наизнанку, становился противоположным. Сначала он отнёс лихорадку неусидчивости к мифологическому прошлому, произошедшему до вселения Савелия Тяхта. Потому что история начинается с первым хронистом. И с ним же заканчивается, уступая место хитроумному плетению кружев, бесконечным уточнениям, мифотворчеству и битвам за историю. Но потом решил, что этого катаклизма вовсе не было, что его родило больное воображение Савелия Тяхта, напуганного в детстве землетрясением и эпидемией гриппа, унесшей мать. И когда ушли из жизни очевидцы, никто больше не сомневался в его правоте. Он изобразил Нестора маниакальным невропатом, однако привёл прозаические мотивы его убийств. Он лишил жизни Савелия Тяхта, чтобы отомстить Изольде, как она и предполагала на смертном одре. Сделать такой вывод Луке было несложно, потому что бывшие в его распоряжении главы домовой книги повествовали об этом более чем скупо, точно шифруя действующих лиц, использовали безличные предложения, оставляя широкий простор воображению. Лука читал их, точно спотыкался, проклиная косноязычие писавшего, вычёркивал карандашом лишнее, пока у него не осталось: «Ночь. Ночь! Всегда. Подвал. Чай. Воспоминания. Жалобы. Жалобы! Мать. Радость? Нет! Ужас! Снотворное. Тьма. Тьма! Бог? Бог!» Из этой горсти слов, разбросанных по строке, Лука и склеил свою версию. У Нестора, как у домоуправа, были запасные ключи, и, подкравшись сзади к стулу, на котором сидел Еремей Гордюжа, он задушил его так быстро, что тот даже не понял, что умер, − ради полкило героина, который сбыл на углу клиентам близняшек, чьим сутенёром давно являлся. Молчаливую, выходившую из лифта, Нестор устранил как свидетеля. Расхаживая целыми днями по дому, как приведение, она многое замечала, подозревала его в убийстве Гордюжи, и её «мяюле, мяюле» означало вовсе не «любовь», а «убийца, убийца!» Но со свидетелем её убийства Нестору было уже не справиться. И тогда вместе с домовыми книгами передав ему символические ключи от дома, он спустился в чулан, где надеялся спасти если не жизнь, то честь. Во многом третий домоуправ был проницательнее своих предшественников. Так, от Луки не укрылось, как погружённый в пучину слепоты, Савелий Тяхт думал, что мир с годами сжимается, расставляя повсюду ловушки из потерь, утраченных возможностей и ненужных приобретений, обременительных, как чужая ноша, что он превращается в добровольную тюрьму, в одиночный карцер пространством с ноготь, куда бегут, чтобы забыться, чтобы не думать о похищенной жизни, что виноваты в этом не окружающие, на которых копятся обиды, что вор — само время, обкрадывающее с первого вздоха, лишающее мечтаний, надежд, юношеских иллюзий, что время — река, не текущая мимо, а заливающая островок с мечущимся, как Робинзон, человеком, маленький островок, на котором едва теплится жизнь, и что смерть − не произвольно поставленная в драме точка, а кульминация ежедневных исчезновений и пропаж. Эта мысль долбила мозг Тяхту в тёмном чулане, как капля, подтачивая камень его безумия, и об этом не догадывались ни Изольда, читавшая ему апостолов, ни кормивший с ложки Нестор, ни навещавший его изредка врач, как никто не догадывался потом, что язык Молчаливой состоял из одной-единственной фразы, которую она варьировала на разные лады: «Люди злы, их города, как чёрные жабы…» Но одно дело — ясно видеть, другое — отражать на бумаге. И Лука сознательно извращал прошлое. Дементия Рябохлыста и Викентия Хлебокляча, лежавших в одной могиле, он совместил в одно лицо, а хромого Якова Кац, которого звал «приёмышем», сделал бессвязно бормочущим инвалидом, коляску которого вывозил математик Матвей Кожакарь.