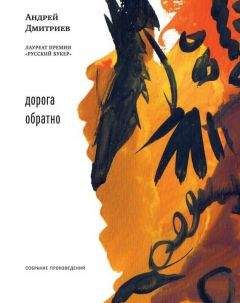— Может, вы нам откроете? — неуверенно просит женщина.
— Это музей. А мы — интернат. Мы не имеем к этому ни малейшего отношения. — Снетков берет мальчика за руку и, обогнув собор, затем обрубленную колокольню, ведет его не в амбулаторию, а подальше от случайных глаз — в пустой школьный корпус, насквозь пропахший дезинфекцией, печным перегаром и мокрой тряпкой. Закрывшись в учительской и плотно сдвинув на окне лиловые шторы, Снетков садится напротив мальчика за тяжелый стол, обитый вытертым сукном и заваленный бледными тетрадками в целлофановых обертках.
— Как дела, Смирнов?
— Хорошо.
— Хорошо сегодня ел?
Мальчик молчит.
— Хоть что-нибудь сегодня ел?
— Пюре ел.
— Пюре — мало, — качает головой Снетков. — Тебе нужно все есть. Иначе откуда сила? Не будешь есть, так и будешь болеть.
— Я больше не буду.
— Не будешь чего?
— Не буду мало есть.
— Ах, я не о том, Смирнов! — сердито выкрикивает главный врач. — Я — поговорить… Ты помнишь, в апреле, тебя отец — приехал и забрал?.. Сказал, что мамка твоя от вас вроде как уходит, а если тебя перед собой увидит, то раздумает уходить?.. Я с тобой, ты уж извини, как мужчина с мужчиной… Ты помнишь?
— Да…
— Под расписку забрал, через месяц вернул, — и какой ты был? Ты, Смирнов, был просто изможденный. Спал плохо: кричал… Потерял в весе… Хуже всего, процесс зашевелился, процесс, Смирнов! Мы еле выправили.
— Она ушла?
— Разве я сказал, что ушла! — сердится Снетков. — Да ничего подобного! Я только хотел сказать: твой отец опять приехал, опять вздумал тебя забрать. А тебе, Смирнов, их ссоры сейчас ни к чему. Тебе волнения и безобразия не нужны совсем.
— Он здесь?
— Скоро будет здесь. С милицией, если не врет… Если они сами тебя не найдут, я не выдам… Ты как, Смирнов?
Мальчик молчит.
— Ты, главное, не плачь. Я все прекрасным образом понимаю: ты, наверное, скучаешь по отцу. И без мамы скучаешь.
— Да…
— А как же! — Снетков тоскливо, со стоном вздыхает. — Вот только нельзя тебе с ним; опять вернешься как тряпочка — и что нам с тобой тогда прикажешь делать?.. Пусть сами как-нибудь помирятся да и навестят тебя с гостинцами. А через годик я тебя и вовсе выпишу. Годик что! Годик — пустяк, не успеешь оглянуться… Не успеешь, Смирнов?
— Не успею…
— И правильно… Скажи мне честно, — Снетков неумело подмигивает, — где-нибудь у нас на территории или где-нибудь рядом с территорией есть у тебя свое секретное местечко?.. Я ведь знаю, у каждого из вас имеется своя берлога для игры.
Мальчик отводит глаза.
— Мог бы ты, Смирнов, пока все спят, так спрятаться, чтобы никто не знал и не нашел, чтобы даже я не знал — чтобы мне не пришлось им врать? А когда будет можно, я громко тебя позову. Или велю Виноградову подудеть в трубу: ду-ду-ду! — какой-нибудь красивый сигнал. Это значит: выходи, Смирнов.
Мальчик долго молчит, посапывая и ерзая на рассохшемся стуле. Потом деловито отвечает:
— Я спрячусь.
Мама, что я творю, с испугом дивится себе Снетков, глядя из-за шторы мальчику вслед, в его сутулую неуверенную спину, обтянутую слишком узким клетчатым пальто с полуоторванным капюшоном, — до чего же медленно он, черт побери, идет по двору, открытый любым случайным взглядам; вот и вовсе встал, оглушенный внезапным обвалом галочьей стаи с колокольни, — стоит, задрав голову, раздумывает; неужели полезет на колокольню? — это зря, опасно, о колокольне речи не шло, имелся в виду какой-нибудь подвальчик, сарайчик, какая-нибудь неприметная норка… нет, обошлось, пошел, идет мимо колокольни, мимо собора, с крыльца которого, слава Богу, куда-то исчезли те двое ненужных свидетелей; озирается зябко, скрывается за углом пищеблока; теперь и Снетков решается выйти на воздух. Выходит и смотрит на часы. До исхода мертвого часа остается восемнадцать минут.
Во времена, когда интернат принято было называть лесной школой, мертвый час на горе Снетков называл «тихим» и любил его, потому что считал часом своей свободы, а во всю прочую часть дня был раздражен. Раздражала лень и бестолковость персонала, раздражали панибратские придирки воспитателей и учителей к нему, тогда еще молодому врачу, но сильнее всего раздражали дети: ну почему они бегают как ошпаренные и орут как резаные, почему выкрикивают друг другу нелепые, грязные, даже вовсе непечатные слова, зачем так злобно задевают, дергают, дразнят друг друга, сами же плачут, сами же потом громко жалуются, сами же ябедничают не менее крикливым и не в меру резким воспитательницам; отчего так кисло, тоскливо пахнут, толпясь на процедурах и осмотрах, их же возят в баню, их ведь строго заставляют мыть ноги и зубы перед сном!.. В дообеденные, школьные часы, когда крик стоял только на переменах, Снетков и подавно не мог побыть с самим собой: с бездумной и злой торопливостью громоздил обязательные поденные записи в историях болезни, сочинял отчеты и запросы в облздравотдел, — и это были самые ненавистные в жизни часы. В обед он ел. В столовой гремел дюраль мисок и ложек, чавкали рты, раздавались те же жалобы и крики… Но — трубила труба, наступал тихий час, и дети засыпали. Уезжали в город учителя, задремывали воспитательницы, врачи и медсестры забывались сном на дерматиновых холодных кушетках амбулатории, — он один бодрствовал. Он и гора.
Он вслушивался в говор горы, обращенный к нему одному. Это для него начинал вдруг тихонько позванивать и постукивать лист железа на ржавом куполе собора, для него то вздыхали, то гудели, а то и по-волчьи пели деревья в бору, для него ветер заставлял шипеть береговую волну внизу, у крутого подножья горы, для него свистел пароходик вдали, пароходику вторил буксир, а если была, как и теперь, ясная осень и если случалось, что именно в этот час медленным строем проплывали над горой перелетные серые птицы, тогда казалось Снеткову, что это с ним они прощаются усталыми плачущими голосами.
С размягченной душой, с легким сердцем, с книгой в руке он выходил из ворот и, сойдя с горы, направлялся к реке. Гора вздымалась над водой почти отвесным известковым утесом, таким высоким, что его хмурая трепещущая тень даже в этот полуденный час покрывала собою поверхность воды до самых далеках бакенов. Снетков садился в тени на поваленный, выбеленный ветром и влагой сосновый ствол, открывал книгу на середине и принимался читать, мерно покачивая головой и шевеля губами: «…Кто действует — потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет — потеряет. Вот почему совершенномудрый бездеятелен и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и поэтому ничего не теряет…». Снетков блаженно уставал, отрывался от книги, задирал голову и, уставя повлажневший взгляд в вершину утеса, увенчанную бурой порослью кустарника и замшелой кирпичной стеной, из-за которой едва выглядывал купол собора, думал, что думает о дао — в его умиленном воображении дао обретало черты Леночки Ц., вечной студентки ленинградской Академии художеств. Раз в месяц, не чаще, и всегда без предупреждения Леночка Ц. являлась на гору с набитой книгами авоськой и говорила о дао, о сосредоточенном Инь и порывистом Ян, о презренном волении, о кошмарной экзистенции, о чакре, о карме, об огненных блюдцах неземного происхождения, об удивительном даре какой-то Антонины Михайловны с Литейного, которая своим бездонным и пронзительным взглядом запросто переставляет с места на место свою старинную мебель в своей старинной квартире. Леночка говорила всегда без пауз, без зазоров между словами, на одном бесконечном выдохе, так долго, что почти не оставалось времени заняться с нею любовью. Если Снетков пытался ее перебить, вставить свое слово, старательно заготовленное в разлуке, или, тем более, оспорить, она искренне, по-детски обижалась, бывало, что и плакала, поэтому Снетков быстро научился не перебивать, а благодарно молчать. Он терпеливо слушал, потом торопливо занимался с нею любовью в процедурной, потом она уезжала, исчезала на месяц-другой, оставляя ему пару-другую книг из своей авоськи… Так продолжалось не год и не два, а целых три года; на четвертый, в начале семьдесят девятого, в последний день студенческих зимних каникул Леночка Ц. явилась к нему не одна — в компании худого широкоскулого бородача. Здороваясь, бородач снял меховой малахай, виновато-торжественно склонил перед Снетковым голову, на самой макушке которой сквозь редеющую гриву проглядывала крупная розовая шишка.
— Как понимаешь, это мой муж, — деловито и как бы с досадой пояснила Снеткову Леночка. — Выходит, теперь я не Ц., а П. Сверхъестественная история, очень смешная, если успею, расскажу.
Полдня они бродили втроем по горе и вокруг, потом смело пошли по льду на другой берег реки. Леночка говорила не переставая о Кришне и о Будде, о «Камасутре» и о «Домострое», а ее бородатый муж П. украдкой подмигивал Снеткову из-под своего малахая, дескать, пусть говорит, будем терпеть, и Снетков невольно мигал ему в ответ слезящимися от ветра глазами… На середине реки они остановились, разом обернулись и увидели гору. Было пасмурно. Гора облаком вставала надо льдом; подобно мертвому, остывающему солнцу, из-за этого темного облака выглядывал ржавый купол собора. Леночка сказала «ух ты» и перестала говорить, а ее муж спросил: