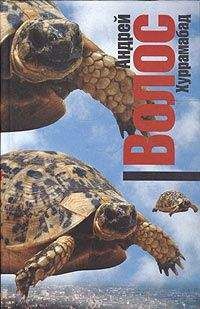Платонов в ту пору шутейно звал его Богданом, потому что в переводе с таджикского Худайдод — это и есть Богдан: богом данный. Самого Платонова в мастерскую привел отец. Приехали в середине дня. В углу двора росла старая урючина. Их усадили на кат, они долго пили чай, и с ветвей урючины время от времени спускался червячок на сверкающей паутинке, норовя утопиться в чьей-нибудь пиале. Говорили по большей части о пустяках. Платонов помалкивал. Потом отец кивнул на него и сказал: «Худайдод, вот у Митьки моего к тебе дело есть…» Платонов достал из сумки завернутые в газеты камни. «Половина твоя, — сказал отец. — Сделаешь?»
Платонову не терпелось, и он пару раз приезжал смотреть, как идут дела. Худайдод занимался его арагонитами ближе к вечеру — должно быть, днем у него других забот хватало. Он неспешно закреплял глыбку, потом, косясь на камень с таким выражением, словно ждал подвоха, лез в карман обтруханного пиджака, извлекал табакерку наскаду, по крупице вытрясал на ладонь толику насвоя… Когда он закладывал табак под язык, лицо у него становилось немного озадаченное. Потом запускал станок. Вода лилась на сверкающий диск и разлеталась брызгами. Худайдод щурился. Когда камень распадался на две части, он щелкал выключателем. Станок смолкал. Худайдод плевал в арык длинной зеленой слюной, снимал очки и спрашивал обеспокоенно: «Годится? Меравад?»
Может быть, ему было приятно общество Платонова, поскольку тот беспрестанно и совершенно искренне восхищался его способностью угадать наивыгоднейшие плоскости распила — те именно, на которых оникс начинал играть словно павлиний хвост. Когда работа была сделана, Худайдод разложил камни на столе, снял тюбетейку, погладил ладонью лысую голову и спросил, усмехаясь: «Ну что, делиться будем?» Платонов кивнул. Худайдод выбрал себе из полутора десятка образцов два симпатичных горбылька, и на этом дележка кончилась…
А сейчас он ехал туда, потому что помнил: кроме поделочного станка был и большой, промышленный. Стоял под навесом в углу двора. А раз был станок, стало быть, и камень был. А раз был камень, то, может, и сейчас есть. А раз есть камень, то, глядишь, найдется в развалах и подходящая глыба лабрадорита. Худайдод Платонова точно вспомнит! Не может не вспомнить! Платонов скажет ему: «Худайдод, отец год назад умер… Слышал? Ну, вот так… что тут сказать? Понимаешь, я уезжаю… Надо поставить хороший камень на могилу. Вот деньги. Поможешь?»
Он вышел на конечной. Со следующего поворота уже был виден Цемзавод.
Его серые от пыли сооружения громоздились по склонам холмов. С годами пыль превращалась в цементную корку. Корка покрывала голые ветви сухих карагачей, траву, камни, шиферные крыши ангаров, ржавые опоры грузового фуникулера… Люльки недвижно висели в синем небе, похожие на спичечные коробки. Раньше все это жужжало, двигалось, вагонетки, груженные глыбами мергеля, ползли по тросам. Ревели мельницы, превращая мергель в невесомую пыль… Именно эта пыль неохватным серым облаком сползала понемногу вниз, на бурые предместья Хуррамабада…
Чистыми были только длинные цилиндры печей. Потому что прежде они медленно, но безостановочно вращались — словно карандаши, покручиваемые в ленивых пальцах. От них несло устрашающим, адским жаром. Он заметно струился над ними, даже когда все вокруг звенело и зыбилось от июльского зноя. Печи работали днем и ночью, и пыль на них не успевала слежаться… А когда печи встали — так замолкли и мельницы. Пыль не висела больше над Цемзаводом. Заснеженные вершины сверкали, словно их только что посыпали алмазной крошкой.
Невдалеке от конечной располагался армейский блок-пост. Дорога здесь сужалась, потому что на обочины были навалены бетонные плиты. У вагончика стоял гусеничный трактор — должно быть, его загоняли в проезд, чтобы окончательно перекрыть движение. Блок-пост охранялся несколькими автоматчиками, и один из них, рассеянно поглаживая приклад, проводил Платонова неприятным, взвешивающим взглядом.
Метров через триста он увидел большие зеленые ворота. Из-за ворот выглядывала крыша дома, шпалеры виноградника и та самая урючина, под которой когда-то они пили чай. Платонов подумал, что время от времени волшебная дверца в прошлое открывается — нехотя, со скрипом, но все же открывается: сейчас он войдет и увидит Худайдода, который стоит у станка и щурится, разглядывая свежий спил яшмы или пегматита…
Впрочем, вой работающего станка был бы слышен с дороги.
Платонов постучал.
Собаки не было.
Подождав несколько секунд, толкнул дверь. Она не поддалась.
— Э-э-эй! — закричал он в щель. — Есть кто-нибудь?
Тишина.
— Ин чо касе хаст-ми? — Платонов, как мог, перешел на таджикский.
Что-то брякнуло во дворе. Послышались шаги. Лязгнула щеколда и дверь приоткрылась.
— Кого вам? — спросил подросток, хмуро глядя на Платонова.
— Мне Худайдода, — ответил Платонов. — Худайдод дома?
Когда дверь снова раскрылась, за ней стоял человек средних лет в бекасабовом чапане. Он вытирал руки грязной тряпкой. Брови его были вопросительно подняты.
— Худайдод? — встревоженно спросил он. — Вы кто, уважаемый?
— Да просто он мне когда-то камни пилил, — сказал Платонов. — Давно. Вы извините, если я не вовремя… У меня для него работа.
— Пройдите, — предложил человек, скованно улыбаясь. — На улице… э-э-э… неудобно, честное слово…
Платонов шагнул внутрь. Двор не изменился. Только домик, казалось, стал меньше. А тень от урючины — жиже.
— Азиз, чай принеси! — крикнул человек, все вытирая и вытирая руки.
В ивовой клетке, висящей на дереве, клекотнул кеклик.
— Ишь какой, — сказал Платонов, улыбаясь. — Боевой. А?
— Его нет, — ответил человек. Он поднес кулак ко рту и неловко покашлял. — Вы знаете, его нет, уважаемый.
— А когда? — спросил Платонов. — Когда мне зайти?
— Его не будет, — проговорил человек. — Он… э-э-э… умер, уважаемый… Полгода назад умер.
— Как это? — глупо спросил Платонов. — От чего?
Человек беспомощно оглянулся в сторону дома.
— За ним приехали, — сказал он, комкая тряпку. — Приехали… э-э-э… люди. На машине. Сказали: поедешь с нами, Худайдод. Он не хотел с ними ехать. Они заставляли. Он с ними ехал… И его стрелили вон там. Сквер за автовокзалом есть же? Там стрелили. Он мой брат.
Вздохнув, положил тряпку на кат.
И развел руками.
3
Отец болел давно, и это стало привычно. О недугах своих, отчетливо смертоносных, говорил брюзгливо, без уважения к самой болезни, с презрением. «Вот, не знаю, что делать… — ворчал он, кривя не отошедшую после инсульта щеку. — Привязалась, дрянь такая…» И, махнув рукой, со вздохом тащился, пришаркивая подошвой левой тапочки, на балкон — покурить. Курить было нельзя, но и не курить, похоже, было нельзя. А что больше нельзя — никто точно не знал. Мать считала — курить. Отец — не курить. Сам Платонов полагал, что человек имеет право выбрать себе меру удовольствий и связанных с ними неприятностей.
Раза три отец ложился в больницу и, провалявшись три недели под капельницей, выбирался оттуда подлеченный. «Да ну их к чер-р-рту!.. — говорил он, улыбаясь немного наискось и мерно постукивая по столу левой ладонью, как привык с тех пор, когда ее разрабатывал. — Профессоришка этот, как его… Фарзоев… Где его учили, не знаю… Небось за пару баранов диплом купил, а потом и пошло — кандидатская, докторская… Благо, народу под рукой — режь не хочу!.. Надо тебе, говорит, в бедренную вену катетер — и куда-то до самого сердца, что ли, хрен его не разберет!.. Каково? Ну ты сам посуди теперь, дурак он или нет? Тьфу!..»
Так и тянулось годами, и в конце концов то, что сосуды отказывают, что ноги болят, что курить нельзя, а ему хоть кол на голове теши, что мизинец на левой совсем плох, — все это стало такой же обыденной, невыдающейся вещью, словно старый анекдот за обедом или общая для всех, маячащая далеко за бесконечным радужным туманом смерть. И даже сама его мука тоже стала вещью обыденной и привычной…
А потом вдруг — ах!.. Он успел только посреди разговора удивленно поднести руку к груди, а понять смысл происходящего, как сказал врач, наверняка уже времени не хватило. И уже не нужно было искать лекарства и деньги… и трезвонить сестре в Краснодар, чтобы передала еще хоть бы три, ну хоть бы две литровых бутылки реополигликина (это и в лучшие времена было бы непростой задачей, поскольку отродясь не летали самолеты напрямик из Краснодара в Хуррамабад)… и ночевать в аэропорту, битком набитом беженцами и растерявшем все свои прежние свойства, включая даже расписание рейсов…
Все это мгновенно отпрыгнуло вдаль, как отпрыгивают горы, когда отрываешь от глаз бинокль, а на смену покатилось совсем другое: могила… бензин… гроб… нет бензина… нет досок… Включился Стрельников, сослуживец отца по Геолтресту… машина будет из Геолтреста, доски будут из Геолтреста, но бензина нет даже в Геолтресте… Три или четыре дня напряженных переговоров, поисков, результатом которых должны были стать несколько литров бензина и четыре доски… Заплатить бы за этот чертов бензин… купить канистру у торгашей на дороге — да таких денег тоже не было… Но все в итоге как-то устроилось: нашли доски… бензина в обрез… из морга ждали к одиннадцати… двенадцать… час… половина второго… городской транспорт переставал ходить часам к пяти, а ведь всем еще нужно было успеть добраться до дому, как муравьям до муравейников, — по крайней мере при последних лучах закатного солнца… Процедура грозила быть несколько скомканной… На фоне этой задержки сама смерть казалась событием незначительным; вот машина опаздывает — это да!.. Половина третьего… без четверти… В конце концов приехали… торопливое прощание… виноватые лица… кладбище… солнце… зелень… сверкание свежей листвы… лицо отца… следы бритья объяснимо неаккуратного, даже жестокого — ведь человеку уже не больно… тесно стоящие ограды, над которыми проносили залитый солнцем алый гроб… слова, слова, слова… шорох и стук комьев… Мать, по обычаю, рвала и раздавала куски какой-то ткани… и все, все, все, конец, — тело осталось в земле, а они пошли пить водку… запускать поспешную суматоху поминок… А потом сумерки, начало быстрой весенней ночи… и привычная, как стрекотание сверчка, пальба в разных концах города, то ближе, то дальше: ба-ба-бах!.. ба-ба-бах!.. — вместо прощального салюта.