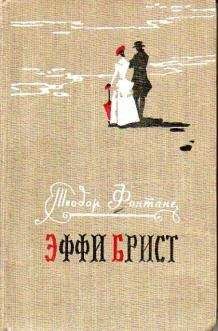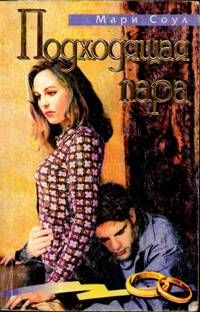Я изо всех сил старалась справиться, понимая, что многое я должна была бы знать, но не знала. Девочки обменивались многозначительными взглядами, а на меня не смотрели. У них был свой язык. Почти все они пришли с фабрик или из многоквартирных домов — мест, которые я видела только из автомобиля. В их мире бельевые веревки были натянуты между стенами облезлых домов, исподнее хлопало на ветру, женщины перекрикивались, высовываясь из окон, дети играли на улице, все было грязным, сырым, выставленным напоказ. Я вдруг поняла, что никогда не сочиняла рассказов о таких людях. Для меня они были менее реальны, нежели призраки. Даже цыгане казались более понятными и доступными. А вот многоквартирные дома… От них я просто отворачивалась.
Я пыталась сблизиться со Сьюзи Трейнер, считая ее единственной девушкой, с которой я смогла бы поговорить, но она наклонилась ко мне и злобно прошептала:
— Ты уже рассорилась с сестрой Гертрудой, так вот, со мной ссориться не надо! — Никто в школе мисс Чапин так не разговаривал. Сьюзи, очевидно, сумела влиться в это общество. — Иди! — Она мазнула по мне рукой, будто смахивала букашку, и я вспыхнула.
— Мне нужно отправить письмо родителям. — По какой-то глупой причине я вообразила, будто она знает, как это делается.
Она рассмеялась, словно я попросила у нее какую-то мелочь, баловство, вроде шоколадного пудинга.
— И как, по-твоему, я смогу тебе помочь? Я не разговаривала с родителями с тех пор, как они меня сюда заперли. Если тебе не нужны проблемы, ты никому не станешь рассказывать, откуда ты. Теперь ты отсюда. И это единственный совет, который я тебе дам. — Она отодвинула меня и ушла.
Позднее я узнала, что Сьюзи Трейнер была из «хороших девочек». Благочестивые серьезные девушки — даже если они только притворялись таковыми — имели определенные привилегии: например, дополнительное одеяло или добавку за ужином. Кое-кто даже допускался в комнаты сестры Гертруды. Никто не знал, что там происходило, но все были уверены, что в этом задействованы излишества, вроде чая и печенья.
Я хорошей не считалась. Первая ночь здесь разрушила все мои шансы на это. Но и преступницей я тоже не была. Как обычно, я зависла посередине, и никто не принимал меня. Большую часть времени обо мне просто не вспоминали. Да, в мою сторону бросали усталые взгляды, но я была хрупкой, кроткой и безобидной, так что не обращать на меня внимания было просто. В школе мисс Чапин я, по крайней мере, была младшей сестрой Луэллы, а здесь стала невидимкой. Я завидовала другим. Завидовала их товариществу, их женственным фигурам, характерам.
Ирландки держались вместе, как и итальянки, русские и румынки. Все предпочитали своих, как будто границы стран все еще разделяли их. Только Мэйбл и Эдна не обращали на это внимания. Я не знала, из какой они страны, но это не имело значения. Они много знали и многое умели. Им никто не был нужен. Кучка девушек, считавших себя американками (например, Сьюзи Трейнер), тоже держались вместе. Но Сьюзи разрушила все мои надежды на то, что я смогу к ним присоединиться.
— Ты меня не знаешь, ясно? — прошипела она. — Не смей садиться рядом за ужином или в часовне. А если ты посмеешь на меня смотреть, — ее глаза сузились до щелочек, — я превращу твою жизнь в ад.
Ад казался мне понятием относительным. Тоска по семье поселилась в груди, напоминая о себе постоянной болью. Руки тряслись от усталости. Пониже спины все болело, а ноги горели так, что трудно было ходить. Горячая вода кусала потрескавшиеся кровоточащие кисти рук. Как бы быстро я ни работала, куча белья никогда не уменьшалась. Сердце стучало как сумасшедшее. Через несколько недель приступы стали ежедневными, и мне приходилось садиться у корыта, опустив голову между коленями, и ждать, пока я снова смогу дышать.
Довольно быстро все поняли, что для стирки я слишком слаба, и Мэйбл поставила меня на сортировку белья.
— Это не потому, что я такая добрая, — сообщила она, провожая меня к столу, заваленному мешками с бельем. — Девчонка, которая не может угнаться за остальными, тянет назад всех, так что не испорти хотя бы этого.
Мэйбл вообще редко со мной заговаривала. О побеге больше не было и речи. Поначалу я утешалась дикой фантазией: украсть ручку и бумагу у сестры Гертруды и передать письмо одному из тех, кто привозил белье. Но их фургоны не подъезжали к дому достаточно близко.
Девушки считали себя рабынями, учитывая, что на их бесплатном труде прачечная зарабатывала примерно шесть тысяч в год.
— Бесит меня стирать исподнее. — Эдна плюхнулась на узкую кровать и заговорила с Мэйбл, не обращая внимания на меня. — Сестры гребут денежки, а мы кровь соскребаем с панталон богатых дамочек.
— Слышали бы тебя сестры, — заметила Мэйбл.
Мы все знали, как старательно монахини ищут повод выпороть или еще как-нибудь наказать нас. Рассказывали о смирительных рубашках и о «яме» — темном чулане в подвале, где людей забывали на несколько недель. Одна русская девочка с огромным ртом рассказала, что кто-то там даже умер.
— Когда сестры ее нашли, она уже весь пол кровью заплевала. А теперь ее призрак там бродит.
Сегодня я высматривала призрака в лунных тенях. Может быть, хотя бы мертвая девочка будет со мной дружить. Тридцать восемь зарубок! Тридцать восемь ночей — и никто за мной не пришел!
Мне надо было помочиться. Я отбросила одеяло, выдвинула из-под кровати ночной горшок и пописала как можно тише, чтобы не шуметь. Нет ничего унизительнее, чем приседать в комнате, полной девочек, мечтающих над тобой подшутить.
Закончив, я выскользнула в коридор и открыла окно. Холодный ветер покусывал за руки, пока я выливала содержимое горшка. Мир не двигался. Может быть, время остановилось и моя жизнь продолжится с того же места, когда я отсюда выберусь? С этой мыслью я закрыла окно.
Меня напугал приглушенный всхлип. Повернувшись, я увидела, что в дверях детского дортуара стоит плачущая девочка лет шести или семи, не больше. Она пыталась что-то сказать, но выходили только всхлипы. Я отчаянно замотала головой. Если бы нас кто-то услышал, нам пришлось бы туго. Прижав руку ко рту, она пробулькала сквозь пальцы:
— Я вся мокрая.
Глаза у нее были такие отчаянные, что мне стало ее жалко.
Я посмотрела на закрытую дверь сестры Гертруды, прижала палец к губам и поманила девочку за собой. Мы прокрались в мой дортуар, где я помогла ей выбраться из мокрой ночной рубашки и просунула ее тощие ручки в широкие рукава сухой рубахи, которую нашла в гардеробе. Ее бледное тельце в лунном свете казалось полупрозрачным. Сквозь тоненькую, как бумага, кожу, выпирали кости. Опустив руки, она стала похожа на огромного мотылька, готового взлететь.
Я шикнула ей, чтобы она убиралась обратно к себе, но она только смотрела на меня большими темными глазами. Не обращая на нее внимания, я пошла к своей кровати, но услышала за спиной мягкие шаги. Я сделала страшные глаза и мотнула головой в сторону двери. Она не послушалась, забралась в мою постель и натянула одеяло до подбородка, не отрывая взгляда от моего лица.
Мне ничего не оставалось, кроме как затолкать мокрую ночную рубашку под матрас и лечь рядом с девочкой. Надо признать, что лежать рядом с маленьким теплым телом было уютно. Она повернулась и сунула колено прямо мне под ногу. Медленно заморгала — глаза у нее слипались.
Я подождала, пока она не заснет как следует, и вытащила ее из постели. Руки мои дрожали под ее весом. В детском дортуаре я нашла пустую кровать, положила девочку туда и вернулась к себе, не забыв захватить по дороге ночной горшок.
На следующее утро я задержалась в дортуаре. Оставшись одна, я быстро вынула ночную рубашку из-под матраса, сунула ее под сорочку и обвязала вокруг талии, постаравшись пригладить как следует. Потом побежала в часовню. Ходить с таким секретом на животе было страшновато, но даже приятно. Оставалось только надеяться, что никто не заметит, как что-то выпирает из-под одежды, и не почувствует кислого запаха мочи.