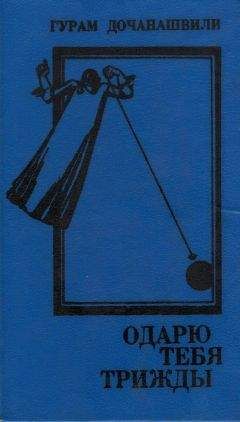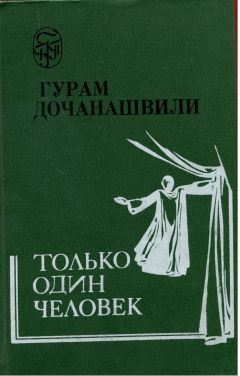— Вот, получайте, все в порядке.
Респондент не преминул выразить свое удовольствие:
— Огонь, чистый огонь... — и снова... снова обратился ко мне:
— Ну как, увидели что-нибудь?
— Когда?
— Закрыв глаза.
— Да, фотоаппарат.
— То-то. Даже этот аппарат запал вам в душу, — и снова глядит на меня в задумчивости, — а сколько найдется на свете романов, которые много интереснее любого из существующих на земли аппаратов. Вот, скажем, если вам приходилось читать... о чем же вас спросить, я даже как-то растерялся... Что бы такое назвать, а, Клим?
— «Мадам Бовари»! — благоговейно произносит Клим.
— Да, вот хотя бы «Мадам Бовари» вы читали?
— Э-э-э... не-ет,— говорю я, но пусть бы раньше язык у меня отсох, таким взглядом он меня смерил: — Скажите, говорит, могу ли я вас за это похвалить, не кривя душой, как по-вашему?
— Нет.
— Тогда я лучше прикушу язык.
Даже этот сопливый недомерок Клим и тот смотрит на меня с осуждением, и хоть мне вообще не свойственно краснеть, я весь заливаюсь краской:
— Обязательно прочту.
— То-то, — говорит респондент, — возложив руку на мое плечо и с ласковой улыбкой заглядывает мне в глаза, — вот это совсем другой табак! — Короче, я заставил его себя полюбить.
7
И так как ему надо было срочно отпечатать снимки каких-то энергетиков, закончивших курс десять лет назад, мы с ним вошли в ту самую узенькую дверь; он проявлял фото, и мы между делом вели беседу в тусклой мгле, разбавленной жиденьким красным светом. Отвечал он мне кратко, четко, без волнения, и я, воспользовавшись благоприятной обстановкой, задал ему очень трудный вопрос, на который так сразу, вдруг, никому не ответить: «Скажите, довольны ли вы жизнью?» Однако он ответил без малейшей заминки: «Смотря по тому, с каким автором я в этот день повстречаюсь...» Пока мы беседовали, на белоснежной фотобумаге, опущенной в какой-то раствор, выгнулась чья-то бровь, потом проступили губы, глаза, волосы. «Рождаются, — пошутил респондент. — Иногда попадется такой интересный персонаж, ну, вот вроде, простите, вас; ах, и как же вы похожи на Аурелиано, но только до того, как он разжирел. А вот этот, дорогой мой Тамаз, — он коснулся пинцетом какого-то «новорожденного», — видать, человек безобидный; но бывают, представьте, и злые, заносчивые, напыщенные, — ведь такие никогда не переведутся; случается, встретишь и добряка; выступаю ли я на собраниях? Нет, нет, никогда! Во-первых, с фотографами редко проводят собрания, но если бы они бывали и ежедневно, я и тогда бы ни за что не выступил — могу ли говорить одинаково с людьми разного нрава и развития, хотя бы их было и всего только двое! И к двоим не подойдешь с одной меркой, если один не читал, например... назови какого-нибудь известного писателя, Клим... Да вот, если, скажем, один из них не читал Стендаля, а другим он читан-перечитан от корки до корки, — разве же с двумя такими людьми можно говорить одними и теми же словами? Теперь напечатаем эту пластинку, Клим... Что же касается следующего вопроса: какая наука меня привлекает, то есть какую науку я люблю — да? — то на это мне затруднительно ответить: слишком слабо я разбираюсь в науках, и ээ... можно мне сначала сказать, какую науку я не люблю? Ну вот хоть математику... Это чье же такое лицо, господи боже ты мой, Клим! Что за самодовольная рожа, просто нечто невообразимое! — пристально вглядывается он во влажный снимок. — Ну можно ли такому человеку хоть в чем-то поверить? Кто же он, интересно, такой, как ведет себя на работе, в семье? Эту карточку напечатай и для нас, Клим, повесим ее в кабинете на видном месте — всего хоть разок взглянув на нее, каждый поймет, как отвратительно самодовольство; я вот давеча говорил о математике, науке, как принято ее считать, точной, да только не всегда она точна. Приведу вам грубый пример... Есть у меня один знакомый с детских лет, рос он, бедняга, в роскоши, да и повзрослев, не знал ни в чем отказа у своих родителей; так он, несчастный, вечно ходил с повешенным носом, туча тучей, у него так и остались до сих пор голодные глаза, и это как раз потому, что он всегда был сыт по горло, ну разве же можно утолить голод, если ты вечно сыт! И знаете, куда его повело? Он превратился в трепача и бахвала; мозг-то ведь праздный, ничем не обремененный, вот и пристала к физии несъемная маска самодовольства, вроде как и у этого надутого индюка...
Внимательно слушавший его Клим вдруг огорченно говорит:
— Фу ты пропасть, я его совсем зачернил!
Оказывается, Клим забыл вовремя достать брошенную в раствор фотокарточку, и лицо на ней почернело в уголь, но Человек, который страсть как любил литературу, успокоительно говорит: «Пустяки, Клим, фотобумаги у нас с тобой, слава богу, хоть отбавляй». «Да, но как это я проглядел, одна чернота вышла», — сокрушается Клим. Однако респондент, разглядев сквозь черноту того самодовольного типа, пренебрежительно замечает: «Затемнил, зачернил... Небось в академики его избирать не собирались... Да, так о математике, — продолжает он. — Вот, скажем, стоит на улице тот балбес, взращенный в холе и неге, а рядом с ним... назови, Клим, какого-нибудь великого писателя, величайшего... Ооо, лучше нельзя было и придумать! Так вот, стоят, стало быть, рядом гордый, перстом судьбы отмеченный сухорукий, тощий и оборванный великий испанец и бок о бок с ним эта ничтожная шваль, этот паскудник, которого я вам давеча охарактеризовал; даром, что жили они в разные эпохи, что с того! — ведь и в те поры нашелся бы, верно, не один ему подобный; ну, значит, стоят они рядком, плечом к плечу, — ведь мыслью-то не возбраняется углубляться в недра тысячелетий, — а мимо них проходит какой-нибудь бесталанный, а, впрочем, может, и высокоодаренный, математик, которого, положим, спрашивают: сколько человек здесь стоит? Он, несомненно, ответил бы — два. Но какой же это ответ, я вас спрашиваю! Как это так «два»! Разве же тот и этот единица плюс единица?! Нет и еще раз нет! Математика порой вовсе не точная наука. В литературе, милейший мой, такой неточности вы никогда не встретите, хотя литература и не подвластна никаким законам, — эта великая беззаконница. Но «беззаконница» в своем, совершенной особом смысле, драгоценнейший мой... Никому и в голову не придет сказать, что по земле Испании странствовали некогда двое верховых, нет, нет, это один, долговязый и тощий, странствовал, а другой — толстяк-коротышка — всего лишь сопровождал его. Доставай, доставай, Клим, не то снова передержишь, ну тебя совсем, — и улыбается.
Мы, стоя на ногах, беседуем в мглистой полутьме, — я заполняю анкету.
«Есть ли у меня жена-дети? Нет, семьи у меня нет, но невеста, невеста — не обойди и вас господь — была. После нее я не смог ни на ком остановиться, вот и коротаю век бобылем. Но так, что греха таить, так я иногда себе позволяю, организм-то ведь требует своего. А жениться — нет, ни за что, даже и мысли не допускаю. Хочешь, расскажу... обо всем расскажу... Пусть бы променяла она меня на кого угодно, пусть бы это был какой-нибудь щупленький, неказистый интеллигентик или большерукий крестьянин, очкастый музыкант или рабочий с открытым лицом честного труженика, или там физик-лирик, — в последнее время завелась и такая категория людей, хотя, право, не знаю, что их меж собой роднит, кроме разве рифмы; короче, пусть бы был кто ни есть... Но нет, не-ет, она променяла меня на то, что я больше всего презираю, — на чванливое самодовольство... Проходит она как-то раз мимо, вся исполненная неземного, овеянного тайной очарованья, вся точно слово «фиалковая», а рядом с ней вышагивает этот, и рыло его выражает нечто столь отвратное, как слово... «угобзился», я же стою в стороне, лишний, подобно слову «значит»... Э-ге-ге-ге, вынимай, вынимай, Клим, наконец-то получилось!»
Мы стояли, беседовали...
8
Руководитель уставился на меня в упор внимательным, въедливым взглядом, сняв даже по этому случаю свои солнцезащитные очки, — я знакомлю его с анкетой, где каждый ответ — нечто вроде отрывка из произведения художественной литературы как таковой; Руководитель то прислушивается ко мне, то явно погружается в размышления о своем будущем труде, потому что время от времени он, по своему обыкновению, характерным жестом вскидывает голову вверх, несколько отведя ее вбок, и, вздернув одну бровь, устремляется взором в неведомые дали, нет-нет возбужденно приговаривая: «О-хо-хо-хо, вот оно как!», «хорошо, очень хорошо». Я пересказываю пространно записанные мною ответы: названный респондент не любит математики, поскольку писатель Сервантес плюс какое-то там ничтожество не составляют в сумме два, то есть это отнюдь не единица плюс единица; невесту у него отбил какой-то человек, похожий на слово «угобзился»; он, если верить ему, не теряет ни мига свободного времени, так как, едучи в битком набитом трамвае, думает о литературе, только в узком понимании этого слова, сиречь — о литературе художественной. Я излагаю все это по порядку и со всей обстоятельностью, Руководитель по большей части меня внимательно слушает, — мы занимаемся констатацией фактов. «Не теряю, дескать, да?» — таинственно приглушенным голосом спрашивает меня Руководитель. «Нет, — говорит, — нет, вы представляете?» «Но это же просто замечательно, это просто чудно! — восклицает он. — Вот где, надо сказать, индивидуальность... Да вы понимаете, что мы наткнулись на золотую жилу! Этот индивид, с предельно четко выраженными личностными параметрами, смог бы внести ясность в вопросы, значение которых, далеко выходя за очерченные рамки, относится к наиважнейшей сфере; да и можно ли бездумно, так сказать, с кондачка, пренебречь художественной литературой, как таковой? Не ей ли служили своим пером Толстой, Герцен и ээ... ммм... ну и целый ряд других известных всему миру выдающихся людей?! Ну ладно, всё, — говорит он, быстро взглядывая на меня. — Давайте-ка пойдем, названный респондент напрямую предназаначен для сложных вопросов, — и несколько взволнованно: — в общем, на месте посмотрим. Только застанем ли мы его на работе...» — «А куда же ему деваться, — успокаиваю я. — Где он может быть, если не...» «Хорошо, пойдем», — останавливает он меня.