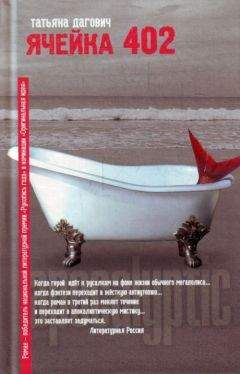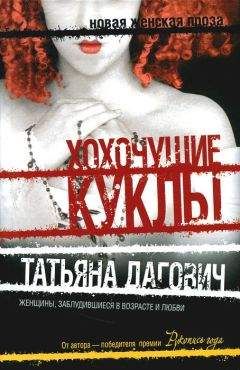Шарван ответил быстро, он только и ждал этого вопроса:
– У меня была другая женщина.
– Я так и думала. Может, хочешь чаю или кофе?
– Нет.
– Есть коньяк…
– Нет, не надо.
– Одна из этих? Из… – Запнулась – то ли не удалось ей выговорить, то ли подобрать слово, что расстроило её ещё сильнее. – Если хочешь знать, я тебя прекрасно понимаю! И всё это оттого, что мы не спали вместе. О господи… Я не понимаю, не понимаю, почему! Это ненормально, ведь так? Но почему ты ни разу даже не попытался… Я… Я не знала, как намекнуть тебе, как сказать… Я же тоже не ребёнок, я понимала, что это ненормально. Ненормально.
– Наверно.
– Ненормально. Я сначала удивлялась. Но ты был таким чудным, забавным. Необычным. Я подумала, ты хочешь, чтобы всё было как в старинных песнях. Первая брачная ночь, романтика… Я только и ждала, и думала, что потом всё наладится. Какой же я была наивной! Как вспомню – ну как можно так верить? А? Ты только объясни мне, зачем ты морочил мне голову? Почему мы не могли жить… жить половой жизнью, как все? Я понимаю, что я сама виновата, я должна была это организовать… Я должна была понимать, что у тебя всё равно есть потребность. И значит, ты её в другом месте удовлетворяешь, раз не со мной. Но почему ты всё делал так ненормально?
– Ты не виновата. Ты так прекрасна, что я боялся к тебе прикоснуться.
– Я самая обычная! – Люба завизжала и случайно смахнула вазу на пол, приготовленную для забытых в раковине цветов. Зазвенело сразу после её крика.
Шарван словно проснулся от звона. Выпрямился, часто заморгал и, воспользовавшись тем, что Люба отвернулась к осколкам, нацепил очки. Люба заплакала, неразборчиво жалуясь самой себе. «Красивая кухня, – подумал Шарван, глядя на лиловые блестящие поверхности. – Но не убрали». На посудомоечной машине громоздились грязные кастрюли. Повсюду валялись фрукты. Возле цветов в раковине плыли тарелки с жиром.
– Что ты теперь собираешься делать? Вернуться к ней?
– Нет.
– Что же мы будем делать?
Люба тоже смотрела на грязные тарелки, сплетая и расплетая пальцы.
– Любочка, кажется, что-то разбилось? – закричала сквозь звук телевизора её мама из комнаты. Было слышно, как снаружи с разгону бьёт в дом влажный ветер, к ветру прибавлялся гул садящегося самолёта.
– Знаешь, что я думаю? Ты пришёл, потому что хочешь, чтобы я тебя простила. Иначе бы ты не приходил. У тебя даже не хватило мужества скрыть всё от меня. Только зря. Ты мог молчать. Что я вас, мужиков, не знаю! Но ты хочешь быть честным, потому что трус.
– Ты знаешь, ты очень красивая.
– Знаю! Да, знаю! И зачем ты пришёл? За этим? Ты хочешь, чтобы мы были вместе?
– Хочу. Но моя работа…
– Что? Что твоя работа? Всегда работа! Всегда!!
– Может, она скоро кончится.
Люба замолчала, не понимая, что он имеет в виду. Он смотрел на её светлое лицо и думал: «Если бы она была моей сестрой… Или мамой. Её волосы пахнут так же, как раньше. Мы бы ехали рядом по лесной дороге и не смотрели бы друг на друга, но не прекращали бы тихо разговаривать. Ехали бы туда, где квадраты. Куда мне больше не попасть. И она сказала бы мне, что делать дальше. Почему бы и нет? И нет… нет…»
Он почти грубо оттолкнул её, приблизившую губы к его губам. И сжался от стыда – сложно представить себе что-то более мерзкое, чем оттолкнуть женщину. Люба упала лицом на скатерть и простонала:
– Ты псих? Нетрудно догадаться. Зачем я возилась с тобой всё это время… Ты смешной, ты как курица от меня отмахиваешься. Как я могла вообще быть с тобой всё это время! Или у меня изо рта воняет? Или ты голубой? Я всегда замечала, что в тебе есть что-то от гомика. А мне даже нравилось. Экзотика. Вот те и экзотика! Или ты импотент? А, кстати, всё сходится.
Голос бубнил в стол и смешивался с оглушительным тиканьем часов, а потом стало слышно движение всего часового механизма, каждой шестерёнки, каждой пружинки, натянутой, будто смерть.
Проснулась Анна поздно, выспавшаяся и добрая. Звонка не давали, и она проспала почти до десяти. Спальня выглядела пустой, но откуда-то слышался храп. День основания Колонии отмечали каждый год двадцать пятого декабря. Всеобщий выходной. С утра разрешалось надевать личную одежду. Она и надела… Брюки, блузка напоминали костюм бомжа и очень подходили к торчащим волосам – волосы никак не дорастали до «боба», который носили все женщины Колонии. Зато туфли, те, что вручил вчера обувщик, на шпильке и со стразами – в них и в ресторан можно. Обувщик был просто счастлив этим туфлям, а мокасины «на каждый день» сунул недовольно, будто его обидели. Порадовалась, что к умывальникам нет очереди.
С трудом узнавала знакомых в их личной одежде. Костюмах, тренировочных шортах, джинсах, свитерах, сарафанчиках. Стесняться причин не было – на многих вещи выглядели отстиранными половыми тряпками. Главное, все им радовались. Завтрак давно прошёл, Анна пошла на рабочее место, потому что не знала, куда идти.
Подёргала дверь гладильной – заперто. Постучала. Стук отозвался особенно гулкой пустотой – оттого, что снаружи шёл снег. С начала декабря шёл снег, но всё время мокрый, слизкий – лежать не лежал, впитывался в землю. Пробегающие мимо колонисты принуждённо засмеялись, обсыпали её конфетти и серпантином из бесцветной обёрточной бумаги. С нижних этажей доносилась музыка.
В обычное обеденное время началась торжественная трапеза. Порций не выдавали – на столах стояли разнообразные деликатесы, салаты, включая «оливье», «шубу», «мимозу» и «крабовые палочки», а перед колонистами – тарелки. Как на большом семейном обеде или на свадьбе. «Мы же как семья», – доносилось то справа, то слева. Еда в основном была холодной, приготовленной вчера или извлечённой из консервных банок. Правда, в термосах имелся горячий чай и кофе. И повсюду розовела в вазочках икра, Анна ещё не видела красной икры в таком количестве. Как иллюстрация к вечным словам «мы живём хорошо». Сначала набросилась на икру, но солёный вкус быстро опротивел. Вино наливали кислое, глотать его Анне приходилось с усилием, как лекарство, и тут же закусывать. Остальные пили вино легко, будто воду, не считая стаканы. Громкоговорители с интервалом минут в пять сообщали о концерте художественной самодеятельности, на который приглашались все, непосредственно после обеда. Каждое объявление завершалось треском.
Анна не успела встать из-за стола, как Саша, толстенький болтун, едва знакомый по встречам внизу, схватил её за руку и потащил за собой, бормоча, что она лучше всех подойдёт на роль Красной Шапочки, что это необходимо и очень смешно. Она не возражала. Оказалась в тесной прокуренной каморке со стенами, оклеенными древними афишами, держа в руках накрахмаленное платье и красный берет с приставшей белой ниткой. Саша ушёл. Постояв в растерянности, увидела в углу каморки косой стул. Положила на него костюм и осторожно приоткрыла дверь. Сначала померещилась ухмыляющаяся мордашка карлика сбоку, но Анна так торопливо захлопнула за собой дверь и пошла прочь, что забыла о малыше. Толпа затянула её – локтями под локти, и понесла. Сверху сыпался бесцветный серпантин. Слышались возбуждённые анекдоты. Она не задумывалась, куда идёт, пока не очутилась вдруг в пустоте, посреди коридора, обнажившего бело-зелёный пол. Где-то, у очередного угла, затихали поспешные шаги. Посомневавшись несколько секунд, сориентировалась и пошла к спальне. Третья спальня была заперта, как и гладильная. Оставалось идти на концерт, к остальным.
Анна почти дошла, но её отвлекло единственное окно в глухом коридоре. Подошла к нему. Посмотрела на снег, который таял до приземления, раскачивая деревья. Остро заболел желудок, и стало жаль бредущую мокрую собаку и нахохлившихся, качающихся с ветками ворон. Из щелей дуло, но животу и ногам было тепло, потому что она прижималась к батарее центрального отопления. Из актового зала доносились искажённые микрофонами голоса, время от времени их заглушал вал хорового истерического смеха.
«Я хочу домой», – сказала тихо; на стекле пульсировал белый кружок испарины от дыхания. Смеркалось, и затянутое небо принимало лиловый цвет. Что она подразумевала под домом – неважно. Возможно, ячейку 402, оказавшуюся недоступной. Зажёгся фонарь, прямо под окном мокрый конус света. Другой огонёк медленно полз у горизонта – машина. Она и пошла бы в зал… Лёгкий хмель тянул голову вниз. Вздрогнула, когда, начиная с конца коридора, одна за другой вспыхнули лампы дневного света. Окно стало чёрным зеркалом, в котором, раздвоившись, отражалось её лицо с четырьмя запавшими глазами, с двойным носом и ртом. («Как будто стоим с Лилей друг за другом, и через нас виднеется улица».) Поменяла позу – опёрлась локтями на подоконник – двусмысленно, если бы кто-то оказался сзади. Отражение повторило и, как и Анна, закусило уголок раздвоенной губы. Зудит. Скоро вскочит язвочка герпеса. Голос Серёжи из зала или показалось? Всё может быть, он должен выступать сегодня. Он – принимает активное участие. В жизни коллектива.