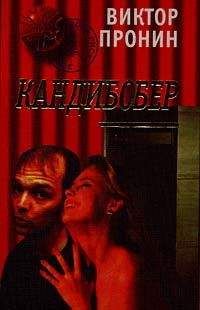Рукава его рубашки были закатаны, разморенный жарой мохнатый пиджак висел на спинке стула поникши и безвольно.
Когда кончался рабочий день, солнце полыхало почти над головой, Анфертьев прогуливался по набережной Яузы в египетской маечке с собакой на груди и в затертых, а потому особенно приятных джинсах производства Венгерской Народной Республики. Часто его сопровождала Света. Она сшила себе потрясающее платье из серой мешковины, и Анфертьев рядом с ней чувствовал себя польщенным. Света загорела, собранные назад волосы открывали высокую шею, платье позволяло видеть плечи, спину, руки. Света любила жару. Иногда они подходили к ее дому и, убедившись, что сестры-старухи во дворе, а молодая семья расположилась на детской площадке, порознь проскальзывали в подъезд, ныряли в квартиру и запирались в комнате Светы до темноты, пока не улягутся старухи, не затихнут и молодожены с суматошным сыном. Только тогда Света тихонько поворачивала ключ, бесшумно открывала дверь — Анфертьев сам закапал машинное масло в петли. Он поспешно целовал Свету на площадке, нырял в лифт и проваливался, проваливался до утра. Но это было нечасто. Что-то мешало. Оба чувствовали в этих свиданиях нечто недостойное. И шли на них, когда нельзя было иначе, когда достоинство уже не имело слишком большого значения.
Анфертьев скользил взглядом по высокой шее Светы вместе с потоками жаркого воздуха оказывался за отворотами изысканнейшей мешковины и возвращался счастливый, с затушенным взором.
— У тебя какая-то негуманная шея, — сказал он Свете.
— Это как?
— Ее нельзя показывать людям.
— Почему?
— От нее им плохо. Снижается производственная активность. Правда, повышается другая...
— Ты испорченный человек, Анфертьев.
— Ничего подобного. Я был испорченным, когда ничего этого не видел, не знал, не понимал. А сейчас ничего, исправляюсь.
— Знаешь, похоже, я тоже изменилась. Только не знаю в чем, как... Хорошо ли это...
Они остановились на мостике над рекой. Смотрели на воду, на проносящиеся по насыпи электрички, на черную громаду небоскреба, который вот уже лет десять стоял незаселенный. Все тридцать этажей его были пустыми, и не бегали по ним секретарши с папками, не стояли конструкторы за чертежными досками и начальники не сидели в своих кабинетах, поскольку при строительстве вкралась небольшая ошибка и дом стал медленно клониться набок. Как бывший шахтостроитель и маркшейдер, Анфертьев знал, что только нерешительность владельцев, которые никак не могут подобрать статью, чтобы списать неудачное сооружение, хранит его в московском небе, а то бы уже давно разобрали на блоки.
А на следующий день Анфертьев вот так же на этом самом мостике стоял с Вовушкой, рассказывая ему историю обреченного небоскреба. Вовушка приехал накануне вечером — постучал, протиснулся боком в приоткрытую дверь, поставил на пол предмет под круглым железным колпаком и виновато улыбнулся. Дескать, простите, дескать, больше не буду. Под железным колпаком оказался теодолит с лазерной приставкой, которая позволяла создавать светящиеся плоскости под разными углами к горизонту, позволяла измерять углы между домами, между звездами, между всеми видимыми и невидимыми предметами. Здесь, на мосту, Вовушкина лысина матово сверкала под московским солнцем, а в глазах мелькала какая-то шалая мыслишка.
— И сколько он вот так клонится? — спросил Вовушка, показывая на темный небоскреб, затаившийся в предчувствии плохих перемен.
— А! — Анфертьев махнул рукой. — Лет десять, не меньше.
— И на сколько в год?
— А черт его знает! Верхние этажи метра на три в сторону ушли. Не один миллион в трубу вылетел. И хоть бы хны! Виновных нет.
— Какой-то ты ворчун стал, — Вовушка взял Анфертьева под локоть и повел с мостика. — А ну-ка пойдем посмотрим, что с ним...
— С кем?
— С домиком. Может, он не так уже и безнадежен. Отогнув какую-то доску, Вовушка проник на запретный участок, крадучись прошел между завалами мусора, щебня, металлолома, приблизился к стене, поцарапал ее ноготком, потом присел на корточки и, взяв щепку, принялся ковырять землю. Анфертьев наблюдал за ним со смешанным чувством озадаченности и сочувствия. А Вовушка, забыв об Анфертьеве, обошел вокруг дома, пиная комья окаменевшей на июльском солнце глины, поднимая железки, деревяшки, пластмашки. Потом, задрав голову, долго смотрел в слепящее небо, где в немыслимой вышине кончался небоскреб.
— А чей это дом? — спросил он у Анфертьева.
— Черт его знает! По-моему, все уже давно отреклись от него.
— Напрасно, — обронил Вовушка. Вовушка нашел незадачливого хозяина и узнал, что небоскреб обошелся нам с вами, дорогие товарищи, в десять миллионов рублей, если, конечно, Вовушка не ослышался по телефону, а ослышаться он мог, потому что больше говорил, нежели слушал. Он предлагал выпрямить небоскреб и просил взамен метров десять в этом сооружении, чтобы мог останавливаться там, когда бывал в Москве. Подобный намек в министерстве приняли как оскорбление и ответили, что скорее сами завалят небоскреб, чем удовлетворят наглые притязания заезжего шамана. Тогда Вовушка попросил оплатить ему командировочные и устроить на две недели в гостиницу или уж на худой конец в общежитие студентов этого министерства, а он за это время выправит небоскреб. Но министр отверг и это предложение, сославшись на то, что не может транжирить государственные средства.
Тогда Вовушка, к тому времени полюбив небоскреб и привязавшись к нему, как детский врач к больному ребенку, согласился провести две недели своего отпуска у постели, простите, у стен небоскреба, ночевать в сторожке на фуфайке, питаться сосисками из соседнего гастронома и пить пиво у метро за одно лишь разрешение выправить небоскреб. Но министр ответил, что с частными лекарями дел иметь не желает. Вовушка все больше веселился, и блудливый огонек в его глазах к концу первой недели превратился в лесной пожар. Если бы упрямый министр увидел его хотя бы раз в таком вот настроении, он содрогнулся бы от дурного предчувствия и сам пошел бы в чернорабочие — Вовушка просил двух помощников, без них, сказал он, ему не выпрямить небоскреб, верхние этажи которого мало кто видел в Москве, поскольку они постоянно скрывались в облаках.
— Тебе не надоело? — спросила однажды Наталья Михайловна.
— Что? — не понял Вовушка.
— Да вся эта унизительная затея с небоскребом! Гори он синим огнем! Не хотят — не надо.
— Что ты, — застеснялся Вовушка. — Ведь иначе не бывает.
— И ты заранее знал, что все так и будет?
— Я был готов к худшему. А сейчас все идет просто блестяще. Мне разрешили спать в подвале, разрешили взять несколько досок, и я сделал себе нары; сторож оказался прекрасным стариком, он побывал едва ли не во всех концлагерях у немцев, отовсюду сбегал, а его рассказ о том, как он вывалился из тележки, когда его везли в крематорий... Только ради этого стоило затевать дело. Представляете, было еще темно, шел дождь, а крематорий все ближе, ближе, а они лежат в этой тележке и знают, ведь знают, что их в печи везут... Дед, а он тогда был еще молодым парнем, взял да и выкатился из тележки в канаву. А француз, дружок его, не смог, зацепился штаниной за какую-то железку. И тогда крикнул моему деду, что за третьей доской на нарах спрятан кусок хлеба в тридцать граммов, чтоб не пропал, съесть его надо. А министр и говорит: пусть, дескать, моя организация напишет письмо его организации, что она просит разрешить выпрямить небоскреб. А моя организация отвечает, что письма написать не может, поскольку такие работы не выполняет. Вот новый небоскреб возьмется построить, а старый выпрямить под силу только хорошему, четко направленному землетрясению.
— Где же выход? — возмутилась Наталья Михайловна.
— Ну как же, — Вовушка совсем устыдился. — Это я... Начал. Мы со сторожем уже неделю выпрямляем... Верхний этаж на полметра вернулся, куда ему надо.
Только никому! — Вовушка, кажется, всерьез испугался. — Нам еще неделя понадобится.
— Откуда ты знаешь, что небоскреб сдвинулся? — спросил Анфертьев.
— А вон, — Вовушка кивнул в сторону своего теодолита, установленного на подоконнике. Накрытый тускло отсвечивающим колпаком, он казался неземным предметом. — Вадька, ты должен помнить... Навел на низ, навел на верх, кое-что умножил, кое-что разделил, ввел коэффициенты... Это все чепуха. Главное — пошел домик, пошел. Я все боялся, что мне его с места не стронуть. Стронул. Завтра пойду на прием к министру, буду пальцы ломать, буду дураком прикидываться, глаза подкатывать, он тоже будет пальцы ломать, руки к груди прижимать, дескать, не знаю, как вам помочь... Глазки делать будет, звонить куда-то. Причем так будет спрашивать: правда, ведь мы не можем разрешить?.. Ну, конечно, я так и думал, я так и доложил товарищу Сподгорятинскому... А товарищ Сподгорятинский уже неделя как в преступном сговоре со сторожем.