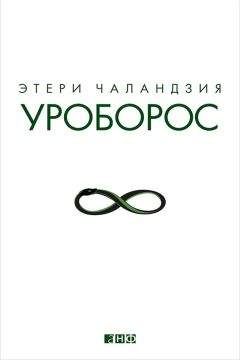Но есть и другие — те, кто мечтают вас похоронить. Скорее всего, они не размышляют о трагической случайности. Хотя, кто знает, в душу с фонариком к ним никто не заглядывал. Они хотят, чтобы все решилось само собой. Чтобы человек исчез, и вместе с ним исчезла и проблема. Он не хотел вреда Нине. Но Егор не знал, как прогнать ее из своего мира. Как миллион заноз, она была везде. Она захватила даже его сны. Днем, когда он смотрел на других женщин, он видел только то, чем они отличаются от Нины. Переставлял вещи в доме, наводя свой порядок вопреки ее воле. Он ездил по тем местам, где они когда-то были вместе, стараясь перелицевать свою память. Нина, Нина, Нина, чтобы он ни делал, она была везде. Егор должен был остаться, наконец, в одиночестве, избавиться и освободиться.
Только под утро он заснул. Ну и, конечно, вскоре зазвонил будильник.
От домработницы, которая пришла, когда он уже допивал свой кофе, Егор узнал, что ночью соседку с сердечным приступом забрали в больницу. Консьержка на время взяла к себе собачку. Все были в печалях. Егор мрачно кивнул и поспешил на выход. Бабий мир. Омут страстей и молниеносная передача информации. Он так и не понял, сквозило ли в голосе женщины осуждение или ему показалось, подхватил пальто и раскланялся. Даже сидя за рулем, он продолжал слышать противное тявканье недобитой собачонки.
Егор сбежал из дома.
* * *
В субботу Нина пошла в зал для йоги. Ей хотелось потолкаться среди людей. Она расстелила свой коврик, осмотрелась по сторонам и легла на спину. Отсюда был необычный вид, зеркала обступали со всех сторон, и Нина ощущала себя мухой в граненом стакане. Она потянулась и закрыла глаза.
Это было в Амстердаме. Они с Егором, как жаждущие разврата девственницы, шлялись по городу в поисках подходящего кофешопа. Как назло, ничего путного не попадалось. Была зима, быстро темнело, Нина продрогла, перебегая между каналами от одного крыльца к другому. Егор тоже устал, и, когда на дороге показалась очередная зеленая неоновая пальма в окне, они согласно переглянулись и юркнули внутрь.
В черном-черном помещении стояли черные-черные столы и стулья и черные-черные люди не спеша перемещались вдоль черных-черных стен. О том, что черный-черный бармен повернулся в их сторону, они поняли, когда внезапно перед ними в воздухе зависли глаза, похожие на мутные бильярдные шары. Шары не выражали ничего. Ни интереса, ни вопроса. Егор как-то договорился с ними, и вскоре над стойкой бара проплыл их косяк.
Они с опаской, словно боясь, что убежит, передавали друг другу самокрутку. Нина осторожно вдыхала пряный дым, прислушивалась к ощущениям, но ничего особенного не замечала. Наконец, дело было сделано, бычок раздавлен в пепельнице, и они поспешили прочь, обратно в гостиницу. Оба шли, посматривая друг на друга и ожидая, когда кто-нибудь хоть что-нибудь почувствует. Ничего. Егор предположил, что бармен развел их, как лохов. Нина тоже что-то ворчала. И тут, посреди очередного моста, словно колокол ударил в ей голову, и по всему телу протянулась горячая волна.
Как потом рассказывал Егор, она остановилась, некоторое время молча осматривалась, а потом медленно, словно кто-то переключил скорость речи, заговорила. Слова с натугой вываливались, выворачивались наружу. Постепенно скорость словесного конвейера увеличилась, слова стали выскакивать быстрее, полетели одно за другим, и вскоре обезумевшей швейной машинкой Нина прошивала воздух пулеметной очередью текстов.
Нина этого не помнила. В тот момент, когда горячая волна догнала и ударила, она поняла, как устроен этот мир. Он был многомерен, многоярусен и многолик. Раскрылся, как цветок цейтрафере. На ее глазах из привычной трехмерной плоскости развернулись десятки, сотни, тысячи других. Нина стояла в многогранной призме, в которой ни квантовая механика, ни теория струн, ни теория относительности ничего не объясняли. Она была муравьем, который думал, что его муравейник — вселенная. Всего на пару минут, чтобы не обезумела, ей показали ничтожность мира, в котором она жила.
Егор ничего подобного не испытывал. Сначала ему было немного странно, потом очень смешно. Потом они нашли пиццерию и сожрали две пиццы, залив их литрами колы. К утру происшествие было заархивировано, подписано, помечено и помещено в соответствующую ячейку памяти…
— Нина, просыпайтесь — раздалось у нее над головой.
Она открыла глаза. Смешной парень с дредами стоял над ней и улыбался. Она улыбнулась ему в ответ и села на коврике. В зале было пусто.
— Вы заснули, — инструктор протянул ей руку, помогая подняться. — И я не стал вас будить.
— В смысле, — не поняла Нина, — я проспала все занятие?
— Ага, — он радостно кивнул.
— Ничего себе… — она растерянно осмотрелась.
— Не хотите есть? Я страшно проголодался, — предложил парень.
Ну что ж, подумала Нина, все правильно, сначала поспали, теперь бы поесть. Она кивнула, и инструктор расплылся в довольной улыбке.
* * *
— А это что за хрень такая? — вырвалось у Егора, когда он зашел в павильон. — Это же ни один пожарник не пропустит.
Декорации танцевального шоу уже разобрали и, судя по слухам, частично сожгли. Группа телевизионщиков, доведенная до отчаяния немыслимым графиком съемок, спалила фрагменты задников в ритуальном костре на пустыре за павильонами. Говорят, некоторые мочились в огонь. Егор мог их понять. Теперь здесь построили какой-то пошлый будуар мадам Бовари с тканевыми обоями в мелкий цветочек, зеркалами в круглых рамах и картинками бульдогов с сигарами в пастях.
— Театральная гостиная, — проворчал директор. — Я тебя умоляю, пусть делают, что хотят. Они совершенно больные. У них новый художник, какой-то долбаный гений, недавно вернулся из Нью-Йорка, все знает, всех на хер посылает, чуть что — начинает визжать и ногами топать.
Егор нахмурился. Он знал эту компанию и терпеть ее не мог. Он всегда относился к актерам с подозрением. У него были два приятеля из артистов, которым он вполне доверял, они вместе сделали несколько проектов, бывало, выпивали, с одним даже съездил в экспедицию на Алтай. Но эти молчаливые ребята с крепкой головой не задержались в профессии и пошли своим путем. Они были слишком правдоподобны в волшебном артистическом мире, где за правило считался неуправляемый и невыносимый нрав, безмерный эгоизм и удивительная гибкость морали. А также склонность к показухе, преувеличенным страстям и истерическим припадкам. Чудо как хороши были эти люди.
Исключения, как всегда, случались, но были редки. Егор порой замирал и внутренне подбирался, попадая на хороший фильм или спектакль. Он не понимал механизмов, но и не мог отрицать присутствия той силы и магии, которая превращала игру в чудо. Талант преодолевал условность, и было неважно, сколько лет актрисе, игравшей Джульетту, и цвет кожи мавра не имел никакого значения.
Но то, что происходило сейчас в павильонах, не было связано ни с творчеством, ни с искусством. Расфуфыренное токовище. Раз в сезон собирался самый сливочный цеховой состав, накрывались столы, и под управлением двух молодых, но ранних и напористых ведущих записывались посиделки и побасенки любимцев публики. Традиционно эти шабаши происходили в одном из театров, но несколько раз случались накладки и выездные сессии. Однажды они уже писали свою «гостиную» у Егора в павильонах. Остались неприятный осадок и задолженности по смете, которую пришлось очень долго закрывать, отчего тяжесть осадка только увеличилась.
Егор не без интереса наблюдал за съезжающимися на съемки артистами. Эти капризные, чванливые, порой небесталанные дети изо всех сил старались обвести мир вокруг пальца. Они уже не могли остановиться, игра сопровождала их везде, на сцене и в жизни. Однако в отсутствие самоиронии и хорошего режиссера превращалась в самодеятельность. Страх, восторг, радушие, сочувствие, уважение, восхищение были чрезмерны. Мало кому удавалось искренне сыграть саму искренность. Они были убеждены, что любое движение совершают легко и непринужденно, хотя каждый жест, каждый шаг и поворот головы были продуманы и просчитаны до миллиметра.
Понимала это публика или нет, но у нее были свои цели и ночные тайны. Образы актеров разбирали, как фрукты с прилавков. Одного видели мужем, мужчиной, мужиком, опорой, надежным, как бетонная балка моста; другая была эдакой доступной и любвеобильной малышкой, мечтой стареющих клерков; та девица обещала вырасти в роковую бестию, наваждение и кошмар, сладко ломающий постылую жизнь; этот юноша уже разошелся портретами и постерами по спальням, своими мускулистыми руками и бедрами прожигая подростковые сны. Актеры думали, что владеют душами, что публика — раба у их ног, пошевели пальцем, и все заплачут или заржут, но они лишь выполняли заказ. В ответ их любили, но странной любовью, от которой было слишком мало толку.