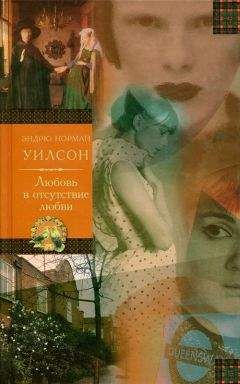Это был приятный легкий обед — киш[64] с сыром (Белинда считала, что местный магазинчик деликатесов — просто чудо), легчайший салат — почти ничего кроме зеленых листьев и цикория. Они пили рислинг. Ели сыр, фрукты, кофе. И болтали, болтали, болтали… Только когда речь зашла о близком Рождестве и повисла небольшая пауза, Ричелдис поинтересовалась:
— Не знаешь, что происходит с Моникой?
Белинда выронила фильтр для кофеварки.
— А разве что-то случилось?
— Я пригласила ее к нам на Рождество. Не знаю почему — может быть, потому что они с мамой раньше были очень близки. Так или иначе…
— В общем, тебе вдруг захотелось, — Белинда не хотела выслушивать длинное объяснение.
— Саймону это может не понравиться, потому что он любит, чтобы на Рождество были только свои. И потом, ты сама знаешь, как он все время ворчит на ее счет. На самом деле они прекрасно ладят, хотя ни один в этом не признается.
— Я и не знала, что Саймон когда-то был недоволен Моникой.
— Господи, ну конечно, он считает, что она странная, что в их дружбе с Мадж есть что-то зловещее. А мне всегда казалось, что он просто боится нашей дорогой Моны. Ну, ты же его знаешь.
— Я? Откуда?
— Короче, я написала Монике — так, просто открытку. Обычно она сразу отвечает, причем так быстро и так подробно, что начинаешь думать — ей, наверное, просто некуда себя деть. А я просто подумала, может, она заболела, вот и все. Мне вдруг показалось, что если Моника серьезно заболеет, то не факт, что нам сообщат об этом, правда? Ведь у нее больше никого нет. Мы с тобой, наверное, самые близкие для нее люди.
— Да, наверное.
— Грустно все это. Мне просто интересно, не слышала ли ты чего-нибудь такого, потому что если нет, то мы могли бы…
Неожиданно для себя Белинда выпалила:
— Я ее видела на прошлой неделе, с ней все в порядке.
— То есть когда ты ездила в Париж?
— Да.
— Это было две недели назад. Белинда, она что, приезжала сюда и со мной не повидалась?
— Наверное, из-за предрождественских хлопот, — сказала Белинда.
— Ей некому подарки дарить, — возразила Ричелдис. — Она моим детям деньги присылает. И зачем ездить за покупками в Лондон, когда можно это сделать в Париже? Белинда, ты от меня что-то скрываешь!
— Конечно, нет.
— Она про маму знает?
— Да. Нет! Не знаю.
— Понимаешь, мама сказала, что Моника звонила однажды вечером, когда Бартла не было дома. Мама ее зовет Тэтти Корэм. Думаю, что это очередные бредни, как и все остальное в последнее время. Она ни с того ни с сего начала винить Монику во всех смертных грехах. Считает, что та виновата во всем.
— Может, в этом что-то и есть.
— Ох, Белинда, тебе не надо было все это от меня скрывать, правда, не надо было. Это ужас. Теперь я все понимаю.
— Что «все»?
— Моника приезжала в Лондон и приходила к маме. Не знаю, что уж там мать могла ляпнуть, но Моника решила, что больше не может к нам приезжать и вообще с нами общаться. Или, может быть, она меня осуждает, считая, что я плохо ухаживала за мамой. Понимаешь, они с мамой так дружили, когда Моника работала в «Розен и Стармер». Боже, она, наверно, чувствует себя ужасно. Бедная Мона, и никто с ней даже не поговорил об этом.
— Может, ты все немного преувеличиваешь?
— Она что-нибудь сказала, когда с тобой встречалась? Что-нибудь про меня?
Леди Мейсон достала свой «Фальстафф» и, закурив, уставилась на подругу через завесу дыма.
— Ты же знаешь, Моника — человек вообще замкнутый, и ни о чем таком она со мной не говорила.
— Но ведь это удивительно, правда? То, что она ко мне не зашла. Если она собиралась навестить Мадж, то логично было бы и мне позвонить. Когда она приезжала?
— Послушай, Рич, по-моему, ты делаешь из мухи слона.
— Я ей позвоню, прямо сейчас.
— Ее может не быть дома.
— Но если она дома, я могу с ней поговорить и объяснить, что мамины слова нельзя воспринимать всерьез. Она могла сказать Моне, что я ее не люблю, или что-нибудь в этом роде. Мама может быть очень убедительной, даже в теперешнем состоянии.
— Не думаю, что нам стоит звонить Монике, — сказала Белинда.
— Я заплачу за звонок.
— Не в этом дело.
— Линда, пожалуйста, позволь мне сделать это.
— Послушай, не кипятись, — сказала леди Мейсон, протягивая Ричелдис трубку. Ее рука дрожала.
Ричелдис уперлась взглядом в номер с длинным международным кодом в своей записной книжке. В мгновение ока пролив, разделявший Лондон и Париж, был преодолен.
— Слушаю, — раздался звонкий голос Моники в трубке.
— Моника, здравствуй, это Ричелдис.
— Я так и думала, что ты позвонишь.
— Да?
— То есть ты знаешь?
— Про твой приезд в Лондон?
— Да.
— Моника, дорогая, я насчет мамы.
— Что случилось?!
— Послушай, дорогая, я знаю, ты заходила к маме в Патни. Я не знаю, что случилось, когда ты там была, и звоню из-за этого. Не принимай, пожалуйста, всерьез то, что она тебе говорила.
— Я не…
— Я так и поняла, что что-то не так, когда ты не ответила на мою открытку. Тебе нужно было сказать мне, что вы встречались. Ей становится все хуже, мне очень тяжело тебе говорить…
С неумолимой дотошностью Ричелдис пересказала историю изменений в психическом состоянии Мадж за последние две недели.
— Ну и когда я узнала, что ты к ней заезжала, то испугалась, что она могла тебя чем-то обидеть, поэтому ты и замолчала.
— Прости, мне в последнее время как-то не пишется.
— На тебя это не похоже.
— Ричелдис, а ты-то как живешь?
— Как обычно… устаю немного. Маркус сегодня в пять утра поднял такой крик, а Саймон сказал: «Ну почему детей не укомплектовывают глушителями…». Неплохо, да?
— А кроме этого, все нормально? С вами обоими?
— Да, все хорошо. Правда, Мона, раз уж мы говорим, то как насчет Рождества? Саймон обрадовался, когда я предложила, чтобы ты приехала… Алло? Алло?
— Алло.
— Мне показалось, что нас разъединили.
— Прости, Ричелдис. Я не смогу приехать на Рождество.
— Мисс Каннингем, имейте совесть!
— Рич, ты, похоже, забыла, что звонишь по межгороду. Давай закругляться.
— Ничего страшного, уж как-нибудь Белинда не обеднеет!
В трубке раздался смешок.
— Она с тобой?
— Да. Позвать ее?
— Лучше поцелуй. Всего хорошего, Рич.
— Моника! Мона!
Связь оборвалась.
— Надеюсь, я ее переубедила, — сказала Ричелдис. — Но все же ничего не могу с этим поделать — чувствую, что она скрывает что-то от меня. Со старушкой Моникой всегда так. А вообще, чужая душа — потемки. А ты что думаешь, подружка?
Леди Мейсон натянуто улыбнулась и подлила гостье кофе.
Саймон тем временем ел свой стейк и ливерный пирог и приканчивал бутылку сухого красного вина в ресторане на Ломбард-стрит. Он обедал в одиночестве. Утро он провел с президентом компании. Несколько раз за тот час, что они говорили, Саймон задавал себе вопрос, не покинуть ли ему пост руководителя отдела. Не то чтобы он возражал против зарплаты в семьдесят девять тысяч фунтов за работу, которая занимала несколько часов в день, просто ему уже сорок восемь лет, и, даже если бы не роман с Моникой, он все равно когда-нибудь задался бы вопросом, хочет ли провести оставшуюся часть, ковыряясь в песке.
Изучая розовые страницы финансовой газеты, Саймон размышлял, может ли он позволить себе бросить работу? Что у него есть? Он рисовал столбики цифр. Со стороны можно было подумать, что он священнодействует.
Дом в Сэндиленде не в счет, он давно переписан на Ричелдис. Поэтому его собственным законным пристанищем считалась квартира в Сен-Питсбург-плейс — тем самым отпадала необходимость платить налог, если бы вдруг пришлось продавать дом. Итак, сколько стоит эта квартира? В семидесятом году они заплатили за нее тринадцать тысяч фунтов. Ее сегодняшняя цена — девяносто пять тысяч фунтов. Он брал тогда ссуду в сорок тысяч. Он член синдиката финансовых компаний «Ллойд», здесь у него крутится около двухсот тысяч фунтов. Неплохо. Еще столько же вложено в надежный портфель, включающий государственные бумаги и акции британских компаний. Управление он доверил брокерам. Еще пятьдесят тысяч фунтов разошлись по «мелочам». В прошлом году удалось кое-что выиграть на фьючерсах какао: деньги легли на счет в Джерси, пополнив накопления для детей, каждому из которых в свое время оставил определенную сумму престарелый отец Саймона. Это пишем в минус. Итого, если не считать тысяч двадцать, предназначенных на текущие расходы — машины, ремонт дома, деньги за обучение, — у него было, вероятно, около четырехсот пятидесяти тысяч фунтов.
Многие из тех, с кем ему доводилось обедать в Сити, сочли бы эту сумму смехотворной. Саймон никогда не обольщался на свой счет. Он, конечно, не Ротшильд. Но и ему есть чем гордиться. Во всяком случае, понятие «черный день» для Саймона имеет вовсе не тот смысл, который в него вкладывает большинство сограждан. Конечно, если продержаться еще лет пять-шесть, то можно было бы преумножить состояние раз в пять как минимум.