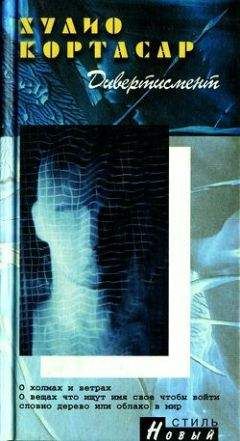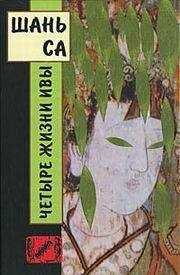— И вы увидите, что наш Тёрн обозначается там как Тьерень. Они его пытались подвергнуть смягчению, но горная твердыня устояла.
В глазах начальника полиции заблестела жизнь, какие–то исконные, хотя и присыпанные пеплом служебной тоски огонечки.
— Возвратимся к моему имени. Если я Иван, столица зовется Ив, то…
— Страна должна называться Ивания, — брякнул секретарь.
— И никак иначе, — просиял господин Сусальный, — и пусть многим, очень многим это не нравится. А теперь я расскажу, почему вы здесь. Иван Андреевич напрягся.
— Все настолько просто, что должно быть обидно. Для вас. В общем, княгиня Розамунда потребовала вашу голову. В обмен на подпись мужа на контракте. Князь слушается жену свою во всем. Он импотент, а она немка. Это наше большое национальное горе.
[— Но, — Иван Андреевич преодолел спазм, схвативший его за горло, — я вам, простите, не верю. У меня такое впечатление, что княгиня скорее расположена ко мне… зачем ей моя голова?!
— Да, к вашему несчастью, вы произвели на графиню очень благоприятное впечатление. Сильное. Зажгли в ее сердце чувство и тут же нырнули в постель мадам. Чувство редко в таких ситуациях переходит в бесчувствие. В равнодушие, понимаете?
— Она меня возненавидела?
— Да. Но ей нужна голова, только голова. Начальник полиции встал, прошел до двери, открыл ее и осторожно выглянул. Было видно, как коридорный сквозняк фамильярничает с его усом.
— Послушайте, господин Сусальный. Иван. — Секретарь закашлялся, ему было и страшно и неловко. — Я о голове. Вы решили выполнить приказ этот?
— Да, у меня есть приказ о вашем аресте. Но я хочу, чтобы вы мне помогли. Помочь вам бежать. У вас в глазах удивление? Почему я так поступаю? Я, как вы правильно подметили, Иван, русит. Мне неприятно, что француженка и немка станут играть вашей головой. Авантюристка и калека. Не верите в возможность таких чувств в начальнике полиции?
Иван Андреевич хотел сказать, что ему все равно, благодаря каким (и чьим) чувствам он сохранит свою голову на плечах. Но начальник полиции его опередил.
— Скажу тогда, что мне выгодно ваше бегство: не получив обещанного, княгиня Розамунда разозлится и потребует расторжения контракта с Крезом. Это еще можно сделать. Князь Петр купит дешевые австрийские чушки и убережет казну от окончательного истощения. И теперь я слушаю вас. Ваше слово, господин русский путешественник. Стоит отступить главному страху, как человек оказывается в толкотне второстепенных чувств. Многообразные и безобразные впечатления пьяных суток захохотали в углах еще несколько квадратной головы. Болел лоб — то поклоны и щелбаны. Зашевелился в сознании голый кошмар по имени Меропа. Иван Андреевич ощутил нестерпимое желание задать несколько вопросов мадам. Еве, Европе, авантюристке, подружке императоров и своей любовнице. Только таким путем можно было выйти из шизофренического лабиринта, в который он попал.
— Я должен поговорить с ней.
— Все могу позволить вам, а этого не могу.
— Тогда чего стоят все ваши слова? Может, вы просто наговорили на нее?
— Нет, не наговорил. Только она уехала, я же вам уже сказал. Ночью в Ильв на машине. А вас вот не взяла. Выдала вас Розамунде. С головой.
— Но тогда хотя бы мадмуазель…
— Нельзя!
— Она тоже уехала?
— Нет, без вас она не уедет, ей велено доставить вас в Стардвор. С одной ролью — двойника мадам этой ночью — она справилась. Она бродила по коридору в платье сестры, и все думали, что мадам на месте. А вот с вами я ее обманул. Не следовало ей отпускать вас от себя. Но в этом доме вы в безопасности. Правда, искать она вас будет яростно.
— Чтобы отомстить? Я обидел ее, — пояснил Иван Андреевич.
— Интересно, как вы смогли «обидеть» это существо? Иван Андреевич затравленно поглядел на полицейского — стоит ли говорить? Да чего уж там.
— Она почему–то решила, что я проявляю к ней интерес как к женщине и тут же предложила мне свою любовь. Я отверг ее, и даже с содроганием. Начальник полиции, резко выходя за рамки своего печального образа, расхохотался:
— Еще бы ей не обидеться, она обязательно должна была возыметь к вам особую злобу. Как же, с Европою он спит охотно, а с Меропою не желает, когда они близнецы.
— Да, — Иван Андреевич потер лоб, — она сказала мне об этом, но я никак не могу поверить. Она и… она — близнецы.
— Да вам кто угодно скажет. Все это знали. Знали, как стенографистка завидует актрисе. Даже переодевается тайком в ее платья, смотрится в зеркало, представляет себя сестрою. Такая возможность, как сегодня ночью, поизображать из себя мадам — для нее счастье. Но мужчин отпугивает. Вы вот тоже… Она рассчитывала попользоваться… Теперь вы понимаете, что вам нельзя показываться ей на глаза. По городу уже шнярыют шпики. Ни мне, ни вам не поздоровится.
— Вы же начальник полиции? — не удержался от ехидного вопроса Иван Андреевич.
— Да, такова наша несчастная жизнь. Возможности у развратной авантюристки значительно больше в нашей стране, чем у законной власти… Я знаю, что большинство моих людей подкуплены, и доверять могу только бывшим односельчанам. Я не могу рисковать в этой партии, поэтому прошу не удивляться тем мерам безопасности, что будут к вам применены. Иван Сусальный встал, закурил новую папиросу.
— Я сейчас отправлюсь на вокзал, чтобы подготовить наше безопасное убытие. Сначала Бухарест, там пересадка — и дальше прямиком на родину. Я забочусь о спасении вашей жизни и очень прошу не мешать мне в этом. Иван Сусальный мрачно затянулся дешевым дымом.
— Кое–что все–таки согревает мое сердце, даже в сей мрачный день, когда я вынужден навсегда покинуть свою родину.
— Что? — вяло поинтересовался Иван Андреевич.
— Я представляю себе, как мадам Ева расправится с нерадивой мадмуазель.
— Почему?
— Меропа не сможет доставить вас в Ильв, Розамунда заставит князя опротестовать контракт, все планы мадам, а их у нее, насколько известно начальнику полиции, много, полетят в тартарары.
Некоторое время Иван Андреевич лежал на потрескавшемся кожаном диване, мрачно глядя в потолок. Но до отхода поезда было слишком много времени, лежать без движения и без надежды на будущую встречу было невыносимо.
Нет, он будет к ней писать.
Иван Андреевич потребовал перо и бумагу. Полицейские, невесело посоветовавшись, принесли и то и другое. Играть в деликатность не стали, наоборот, нависли справа и слева, присматриваясь к каждой букве сочиняемого послания. Пусть, мстительно решил Иван Андреевич, применив французский язык. Изведя листов двадцать почтовой бумаги на черновики, изготовил пронзительный текст–вопль, который, прошибая ширмы всех недоразумений, должен был довести до сознания всеевропейской интриганки (в глубине души Иван Андреевич все более сомневался в словах положительного полицейского), как она, несмотря ни на что, любима нелепым сыном костромского архитектора. А в конце в стиле кровавого всхлипа просил о встрече. Он выражал уверенность, что ему удастся «вымести сор ссоры из храма любви».
Несмотря на цветистость слога, в письме чувствовалось искреннее чувство.
Господи, почему из–за того, что французские пушки дороже австрийских, он должен навсегда расстаться с любимой женщиной?! Почему он должен верить ценителю славянских древностей, который сидит сейчас в гражданском платье на Тёрнском вокзале, готовый к совместному бегству на север? Русит спасает русича? Но не спасает ли он на самом деле при этом контракт пана Мусила с лысым князем? Несомненно, дело так и обстоит. Начальник полиции не может быть тонким, душевным, бескорыстным интеллигентом. Иначе придется считать, что весь мир встал с ног на голову. В этом мире меж близнецами нет ни малейшего сходства! Но зачем же она бежала без него? Почему не взяла его хотя бы как секретаря? Сусальный! Он, господин Сусальный, явился к ней, к порывистой вспыльчивой красавице, и наговорил такого… в конец все еще рыдающей строки упала короткая очередь капель. Иван Андреевич запрокинул голову и стал нащупывать платок. Нос всегда был его слабым местом. Неоднократно он орошал алой жидкостью своей страсти и ланиты, и перси, и длани, и даже чресла своей пассии. И ей это нравилось, хотя ни в одном европейском языке, кроме русского, кровь и любовь — не рифма. Полицейские, завидев кровь, решили, что перед ними происходит случай какого–то хитрого членовредительства, а может, и самоубийства. Они ударили писаке по рукам.
С чувством своего трагического превосходства он рассмеялся. И спросил, не является ли господин Сусальный также и начальником тайной полиции. Является, ответил усач с двумя нашивками. Это ни для кого не секрет. Руки Ивана Андреевича были отпущены, и он сквозь прижатый к носу и губам платок спросил, знают ли господа полицейские, как называется дело, в котором они участвуют.