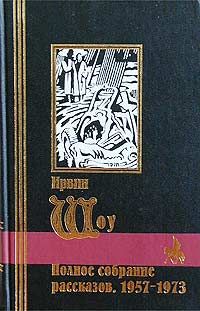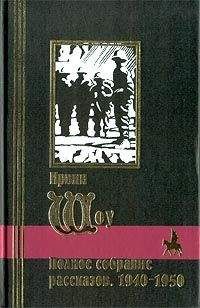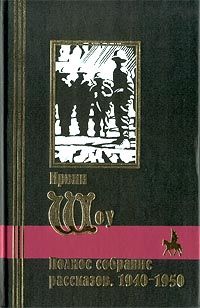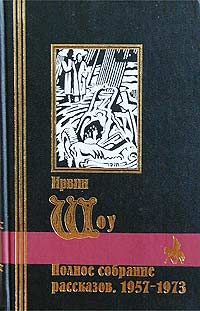Четыре года спустя, когда он рассказывал мне об этом, все еще точно помнил заказанные блюда и вина: копченая шотландская лососина; утка, зажаренная с персиками, салат и дикая земляника; бутылка «О-Брион» 1928 года и «Вдова Клико» — 1919-го.
Ипохондрик, несмотря на свою здоровую внешность, он ужасно боялся, как бы столь продолжительное состояние внутренней напряженности не привело его к катастрофе — болезни или госпиталю. Стал совершать продолжительные, укрепляющие здоровье прогулки быстрым шагом по серому, однообразному предместью Ренни и отказался на целых три недели от выпивки, даже от стакана вина. По мере того как приближался благословенный день, он уже не спал ночью более четырех-пяти часов, хотя все больше убеждался, что приедет в Париж в форме вполне приемлемой.
Старательно выполнив все свои служебные обязанности, вычистив и отутюжив форму, Ронни урегулировал довольно нудные договоренности с банком и уже готов был выехать в Париж, и тут немецкая армия, которая в течение восьми месяцев вела пассивные боевые действия на Западном фронте, неожиданно нанесла мощный удар из Нидерландов.
Все увольнительные, включая и увольнительную Ронни, были тут же отменены, и в течение двадцати дней он молился куда более неистово, чем любой генерал, командующий вступившими в сражение войсками, — о стабилизации положения на фронте.
По мере того как все обходные маневры, все атаки одна за другой отбивались и отбрасывались назад немецкими танковыми частями, Ронни все больше овладевала апатия. Когда английская армия, верная своей военной доктрине — прежде всего спасать жизнь нестроевому составу, — отправила его на грузовике в порт, расположенный в Южной Бретани, он, так и не услышав ни одного пушечного выстрела, оказался на комфортабельном пароходе на пути в Англию. Теперь он утратил всякий интерес к войне, не желал даже слушать сообщения судового радио об отступлении к северу раздробленных на части союзнических армий.
Полгода после этого Ронни торчал на каком-то холме в Сассексе, где обслуживал танк, оставленный вечно стоять на лугу, так как двигатель давно разобрали и отправили в какую-то боевую часть. Ни неподвижность танка, ни тот факт, что экипаж располагал только четырьмя снарядами, чтобы вести огонь по немцам, в случае если те неожиданно появятся на дороге у подножия холма, не нарушали его меланхоличного спокойствия. Подобно философам, которых гнало в монастыри тайное, но непреодолимое разочарование в жизни, Ронни в этот период своей службы совершенно не заботился о таких мирских, преходящих вещах, как броски армий, гибель в бою или падение правительства. Сидел на лугу среди летних цветов, рядом с абсолютно бесполезной грудой металла — когда-то грозным оружием, — и ему было очень хорошо. Улыбался безмолвно, вспоминая о своих фронтовых товарищах, вновь и вновь перечитывал коротенькие письма, полученные от Виржини до падения Парижа, и пробегал глазами текст своего письменного общения с менеджером отеля и меню знаменитого обеда (сохранил копию).
Когда в войну вступила Америка, всем снова показалось, что английская армия в будущем вновь окажется на континенте. Ронни, встрепенувшись от спячки, заставил себя подать заявление о приеме в корпус по подготовке офицерского состава, вполне разумно предполагая, что, если ему суждено вернуться в Париж в офицерской форме, Виржини встретит его гораздо благосклоннее. Напряженно учился и работал и в конечном итоге получил первое офицерское звание, находясь в почетной середине выпускников курса. Ничем особо не отличался от своих товарищей офицеров, за исключением, может быть, одного: единственный подписал одну из петиций за открытие Второго фронта, распространяемых в это время коммунистами, хотя сам был выходцем из семьи несгибаемых консерваторов, а его личные политические взгляды признал бы средневековыми даже герцог Веллингтонский.
Когда я познакомился с ним в Лондоне в 1943 году, он был живым, веселым парнем, слыл проамерикански настроенным, главным образом из-за того, что с прибытием в Англию каждого нового воинского подразделения из Соединенных Штатов его смутная надежда на освобождение Парижа сменялась все большей уверенностью. Американская простота и фамильярность во взаимоотношениях с представительницами слабого пола восхищала его, но следовать нашему примеру оказывалось выше его сил. Для него, одного из тех несчастных мужчин, чьи представления о любви, сексе, равенстве между полами неизменно связывались с одной-единственной женщиной, четырехлетняя разлука с любимой, живущей за Английским каналом1, где сосредоточены шестьдесят немецких дивизий, не только не меняла его взглядов, а, напротив, укрепляла в них.
И вот всем стало ясно, что вторжение на континент в скором времени неизбежно. Ронни, получив к этому времени повышение, добровольно вызвался отправиться в самую горячую точку и каким-то образом ухитрился вступить на песок пляжа в Нормандии в первый день высадки англо-американских войск. С этого момента он стал образцовым, без всякого изъяна, солдатом, который считал дело своей страны собственным делом. Всегда с веселой улыбкой предлагал свои услуги в патрулировании, разведке, обеспечении связи, атаках, а ведь его подразделение обычно не выполняло боевых задач. Думаю, справедливости ради надо сказать: все, что мог сделать простой, занимающий незначительную должность лейтенант, чтобы, преодолевая оборонительные линии противника с рядами колючей проволоки, прогнать немецкую армию назад, к Рейну, — Ронни честно делал.
В тот день, когда пал Париж, Ронни въехал в город с первыми американскими частями, под восторженные крики толпы, не обращая внимания на огонь вражеских снайперов. Его вез на своем грузовичке капрал по фамилии Уоткинс, который, хотя ему чуть больше сорока и он отец пятерых детей, остался романтиком в душе и горячо симпатизировал Ронни.
Под руководством этого Уоткинса он вел свою машину по парижским улицам, то опасно пустынным, то забитым празднующими победу парижанами, — вел к тому дому за Сен-Лазарским вокзалом, у дверей которого в последний раз видел Виржини.
Существует целое племя счастливых мужчин, в подобной любовной жажде находящих свою даму нарядной и надушенной, готовой броситься им в объятия. Стоит ли говорить, что Ронни не принадлежал к этим счастливцам? Виржини нигде поблизости не оказалось, и никто из опрошенных соседей ее не помнил. В ее старой квартире жила какая-то чокнутая пара из Каены; узнав, что Ронни говорит по-французски, эти двое воспользовались такой возможностью, чтобы тут же горько пожаловаться на бомбежки английской авиации, — к несчастью, под них попали.
В тот вечер в разгар шумного веселья в честь первых двадцати четырех часов свободы прекрасного города Ронни рассеянно бродил по Парижу с улыбкой на губах, — слишком хороший, добрый человек, чтобы своей печалью портить настроение друзьям, отравлять им праздник. Внутри себя переживал трагедию обманутого ожидания, все больше убеждаясь: для него любовь кончилась раз и навсегда, едва начавшись.
Наша часть, совсем уж выбившись из сил на подступах к Парижу, там и осталась по чьим-то весьма двусмысленным приказам. Расположились в небольшом отеле неподалеку от улицы Риволи, а тем временем линия фронта уходила от нас все дальше. Ронни занимал соседний номер, и каждую ночь я слышал за стенкой его по-военному четкие шаги — расхаживает взад и вперед по комнате, словно часовой, который решается подойти к полковнику и доложить ему, что опозорил честь полка.
И вот произошло чудо: однажды днем, через трое или четверо суток после нашего прибытия в Париж, ехал он на том же грузовичке с капралом по Итальянскому бульвару и увидел Виржини: быстро катит на велосипеде в противоположном направлении. Правда, стала блондинкой, но Ронни — он внимательно изучал каждое встречающееся ему на улице женское лицо с нервным упрямством радарной антенны — провести невозможно. Махнул Уоткинсу: мол, поворачивай назад. Уоткинсу уже частично передалась охватившая командира страсть, — резко развернувшись, он врезался в самую гущу велосипедов, джипов и пешеходов и, невзирая на все препятствия, сумел поравняться с Виржини на углу улицы Лафит. Ронни, выпрыгнув на ходу из машины, дико заорал, выкрикивая имя Виржини и пытаясь ухватиться за руль ее велосипеда. Почти сразу она узнала его, они порывисто обнялись прямо на улице, а Уоткинс, в восторге, широко улыбался, глядя на них вместе с другими — многие остановились и наблюдали за этой сценой с большим интересом.
Как позже признавался мне Ронни, в тот момент, на оживленной улице, запрудив все движение, оглушенный пронзительным воем сигналов, крепко держа Виржини в объятиях, он почувствовал, что война достигла для него кульминационной точки.
Как выяснилось, Виржини куда-то торопилась и не могла терять время, но все же выкроила минуту-другую, чтобы опрокинуть с ним по стаканчику в ближайшем кафе и немного поговорить. Час спустя, рассказывая мне об их разговоре, Ронни, никак не мог вразумительно передать, о чем он был.