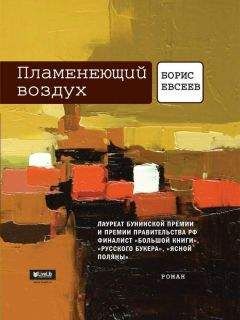Ему достался хорал «Иоанн и Павел».
Песнопение это Евстигней слыхал. И едва ли не в церкви святого Петрония. Тема в басу — словно вымерена чьими-то шагами. Тут же к теме этой прилепились мысли об умелом барине, о Денисе Ивановиче Фонвизине. Затем о кончине падре Мартини, в день святого Петрония как раз и случившейся...
От наслоения ненужных мыслей хорал предстал более сложным, чем был на самом деле. Даже сочная, плотно набитая радостью — как тот болонезский пирог «Спонгата» миндалем и изюмом! — тональность фа мажор вдруг переполнилась стонами, застрекотала ранее не замечавшимися в ней каверзами.
Евстигней скрючился, обрубил ненужные мысли, стал писать.
Соль, фа, до-о-о. До, соль, ля, си, до. Си-бемо-о-о-ль.
Фа, соль, ля, си-бемоль, до-о.
Таков был бас.
К басу испытуемый ловко присоединил мелодию, в точности повторявшую начальную тему. Потом провел «Иоанна и Павла» в теноре. Через несколько тактов — в первом и во втором сопрано. А уж затем в самом нежном и неповторимом голосе — в альте!
Работа сдвинулась с места. Иоанн и Павел, сцепившись за руки, без слов, одними звуками, стали веско, хоть и слегка витиевато, повествовать о страстях Христовых.
Пришел черед фуги. Тут музыка ускорилась, побежала вскачь. На листе стало черным-черно от нот. Фуга была записана быстро, ловко. Два с четвертью часа — и новая, никогда ранее не существовавшая музыка уже здесь, под рукой. Только и ждет: сыграй, исполни!
Esperimento — вывел экзаменуемый дрожащей рукой заглавие и тихо боднул головой запертую дверь.
«...Господин Эудженио Фомини из России просил быть произведенным в Мастера Композиции. Для этого с обычными формальностями он был подвергнут испытанию, которое по решению господ рецензентов хорошо выполнил».
Решение было вынесено без раздумий, сразу. И стало оно для испытуемого бесконечной радостью: семь белых шаров противу одного черного!
«В то же время было представлено на обсуждение господ Академиков утверждение просителя — Академиком Филармонии. И решение вышло так же для господина просителя благоприятным — всеми белыми шарами.
Чтением обычных молитв собрание было завершено».
Евстигней ликовал.
Сын пушкаря, сын канонера тобольского полку — Академик! То-то в Санкт-Питер-Бурхе возрадуются! То-то Иван Иванович Бецкой переменится в лице! Даже и перед гордой Алымушкой будет чем прихвастнуть. Арфу свою небось давно забросила. Любовь к музыке всю растеряла! Так может, и хватит перед ней преклоняться?
Досрочно экзаменовавшийся Евстигней Фомин мог оставаться пенсионером еще целый год: до декабря 1786-го. И какое-то время занятия он и впрямь продолжал. Глубоко-почитаемый, а теперь еще и любимый наставник, все никак не едущий в Рим, продолжал посвящать его в таинства гармонизации баса, уверенной рукой вел по скрытым от непосвященных подземным ходам многоголосия.
Однако аббат Маттеи, все время откладывавший отъезд, был-таки вынужден из Болоньи уехать.
Тогда и Евстигней стал думать об отъезде. Не могли удержать ни филармондские концерты, ни превосходные мессы, ни даже горько-сладостный «Демофонт» Максима Березовского: сия опера, поставленная в Болонье еще в 1777 году и время от времени с восторгом италианцами возобновляемая, душу уже не грела.
Даже и намечавшийся показ Мозартовой оперы «Mitri-date, re di Ponto» не мог удержать. Не остановила и аналогия: этого самого «Митридата, царя Понтийского» Мозарт начал сочинять именно здесь, в Болонье, не дождавшись отъезда в Милан, откуда оперу ему и заказали. Болонья — счастливый для сочинителей город?
Так ли, нет ли — а надобно было возвращаться. Возвращаться ранее положенного срока. Может, и не постигнув до конца глубин многоголосия, не познав всего, чему могли обучить искушенные в музыке италианцы, казалось, не слишком обескураженные австрийским владычеством, но зато явно огорошенные немецкими зингшпилями, вовсе не сходными с их собственными операми-буфф!
Да, так! Весь срок отбывать, шею себе сломать! А то и долю надвое переломить.
Великое старание, с коим учился Евстигнеюшка, стало вдруг иссякать.
Имелись, правда, и еще обстоятельства, гнавшие молодого сочинителя из Болоньи вон.
Первое: после зимы, и уже не на Виа дель Гуасто, а близ монастыря Сан-Франческо, снова попался ему езуит с переломленным носом. Разговора меж ними не было, но иезуит Евстигнеюшке дружески — как своему — кивнул. После кивка улыбнулся сладко.
А второе: жаркою весной, ближе к лету, после звучной, но короткой грозы по обычке последних месяцев скитался он улицами Болоньи. Пройдя насквозь еврейский квартал и торговые ряды, вышел к двум башням, Due Torri. Неравновысокие, страшноватые (а одна из них еще и с наклоном, «Косая»; так называли башню сами болонезцы, намекая тем самым, по мысли Евстигнея, на смерть с косой), — томили, но и притягивали.
Тут, у башен, братья Езавели — один повыше, другой пониже — его и перехватили.
«Тоже они... как башни, как — Азинелли и Гаризенда», — слегка про себя усмехнулся, вглядываясь в братьев, новоиспеченный Академик.
Вскоре, однако, стало не до смеха. Братья грозили и увещевали, манили в тратторию над обрывом и, бешено вращая глазами, щупали припрятанные под легкой одеждой ножи.
Один из братьев — что пониже, со смоляной щетиной на щеках, похожий на кладеного кабана, сонный, — больше молчал. Другой, повыше — глистоподобный, вертлявый — тараторил без умолку.
— Вишь, две башни? — извивался глистоподобный. — Одна из них, Косая, для тебя, чужеземец, ох как опасна. Не веришь? Зря! Три метра наклону у нашей Гаризенды! Еще чуть — как раз по котелку тебя и долбанет! Не любит эта башня пришлых. Даже флорентиец Алигьери башней этой был страх как напуган. Ну а испугавшись башни, стал в стишатах чушь всякую про нашу Болонью нести! Вот я тебе сейчас эти стишата на старинный манер и прочту… Сейчас я, мигом… Может ты, Чакко, стишата эти вспомнишь?
Чакко-кабан молчал.
— Но тебе, горбатый варвар, поэзия, вижу, не интересна! — глистоподобный завертелся на месте, думая, чем бы, кроме слова, посильней зацепить пришлеца.
Забыв на минуту о братьях, Евстигней углубился в себя.
Дант сумрачный, Дант тревожный весь целиком осилен им не был. Но «Ад», до песни двадцатой, он одолел. Там-то, в одной из песен, ему и встретились слова про сводников-болонезцев. И про то, что в аду тех болонезцев скопилось гораздо больше, чем на земле их осталось. С тех пор Дантов стих — по отношению к болонезцам не вполне справедливый — перелагался им по-русски в уме весьма часто.
Не первым стал я болонезцем, что в аду рыдает…
Здесь собралась нас целая ватага негодяев. Немудрено!
Мы с алчностью своей до вздоха смертного расстаться не желали!
— Знаю, о чем думаешь: попользовался Иезавелью и был таков, — заговорил вдруг тот, что пониже, Чакко. — Так ты пользуйся! — Чакко-боров сладко сощурился. — Только плати нам с Херонимо!
— А нет — так имеется еще и третья башня! — подхватил Херонимо. — А в башне — тюрьма. В той тюрьме в старину всяких недоумков ослепляли. Мы и тебя, чтоб после Иезавели никого больше не видел, ослепим. Хватай его, Чакко!
Евстигней отскочил от братьев подальше. Те не отставали. К счастью, вони и крику от них было куда больше, чем настоящего дела.
«Эх, Езавель! Не стоят тебя братцы!»
Сказав это про себя, с удивлением почувствовал: Езавель его больше не влечет!
Евстигней усмехнулся: вот она, жизнь! Вчера одно, сегодня другое...
Усмешка вконец разозлила братьев.
Подступая все ближе, они — теперь уже вдвоем — наперебой кричали:
— А вот еще — Инкороната! Башня-пила! Она не только ослепляла! Даже головы кой-кому отпиливала. Короной тюрьмы тебя коронуем. Плати, Академик, плати!
Евстигней едва отбился. Братья кричали вдогон, обещались повстречать его вновь. Тут-то и было решено окончательно: от езуитов и от кабанов финикийских — назад, в Россию! Не то чтобы страх взял, а просто дела здешние кончены. Езавель — оставлена навсегда, братья ее — остолопы, а в Болонью он при желании и без помощи езуитской еще вернется.
Кроме прочего, захотелось сей же час, сего же месяца и года, все, что в Италии узнано — применить в оперно-театральном деле. И применить, конечно, в России.
Того же дня было вновь отписано в Петербург:
«Имею честь донести Императорской Академии Художеств, что обучаюсь под тем же мастера смотрением, как имел честь писать в прошедших репортах. Но по причине его отъезда в Рим, думаю, мне нечего делать в Бологне; тем паче, что имел счастие быть экзаменован в Болонской Академии, и получить из оной же Академии типлон на мое художество».