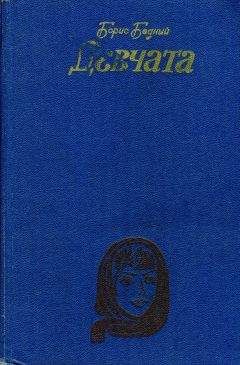«Цветы посадить, что ли?» — придумывал Середа и тут же отвергал эту мысль: толку мало в цветах. Маша не захочет торговать ими. Она и так отбилась от рук. Противится каждому слову, а утром встает вся в слезах. Извела своими капризами: то в театр тянет, то в кино. Ни разу и не посидели за чаем и вином, как мечтал раньше.
Маша похудела. Завила наполовину вылезшие волосы, превратилась в сухую печальную женщину.
Середа замечал перемену в жене и объяснял все это по-своему: «От безделья». Но Маша все больше выскальзывала из-под его власти. Дня не желала дома побыть. А ему так хотелось посидеть в беседке.
Молча шел Середа с Машей в театр. Молча стоял в очереди за билетами — широкоплечий, с короткой морщинистой шеей и короткими, как обрубленными, руками. Сердито посматривал из-под широких бровей на людей зеленоватыми, как у Бурка, глазами.
После представления Маша веселела. Встречая рабочих с завода, расспрашивала о самодеятельности, вспоминала о прошлом. Середа шел рядом и ревниво молчал. Не на шутку беспокоила его Маша.
«Поджигают подруги», — догадывался Середа. До слез сжимая кулаки, вспоминал слова: «Вожжи потуже натягуй!» Перебирал в памяти каждый шаг прошлой жизни: где, когда дал маху? Но не находил ответа и только убеждался, что все больше любит Машу.
Наконец твердо порешил не ходить в театр. Купил телевизор.
Маша обрадовалась покупке и в первый же день пригласила в дом соседей. Середа был потрясен, увидев входивших в калитку женщин с детьми и мужчин в праздничных костюмах. Маша удерживала рвущегося с цепи кобеля. Середа переминался с ноги на ногу, с трудом растягивал губы в улыбке, кланялся, а на лбу и морщинистой шее у него блестел пот.
— Ну-ну… заводи, — выдавил он, повернулся и, обессиленный, на ватных ногах зашагал в глубь сада. Так и не зашел в комнату.
Весь вечер он бродил в темноте между молоденькими яблонями. Вздрогнул, когда из окон ударил свет и в доме зашумели, а потом затрясся в ознобе, услыхав, что Маша приглашает соседей приходить и завтра. Привел его в себя внезапный рык взвившегося на цепи пса, который будто чуял настроение хозяина и выдабривался перед ним, яростно нападая на прохожих.
— Давай, Бурко! Газуй… на всю железку!..
Бурко сорвался с цепи, рыча, повис на калитке в тот самый момент, когда она захлопнулась за Машей, вышедшей проводить гостей. Середа подбежал к собаке, обхватил ее горячую шею дрожащими руками и, чувствуя, как отходит, успокаивается сердце, зашептал, касаясь обрубка уха губами:
— Умница, умница!..
Стукнула щеколда, Середа воровато вздрогнул, схватил кобеля за ошейник и потащил. Послышались торопливые, нервные шаги, мелькнула тень, хлопнула дверь. Маша прошла — не заговорила, а он не спеша приладил цепь, покурил, пуская дымок кверху и усмехаясь чему-то своему. Вошел в спальню невозмутимо спокойный, словно ничего не случилось. Маша уже лежала в постели с закрытыми глазами, но по тому, как поднималась простыня при дыхании и как быстро-быстро дергалась ее тонкая бровь, он понял, что она не спит.
— Ну, картину хорошую крутили?..
Та не ответила и отвернулась к стене, натягивая простыню на голову.
А на другой день, придя с работы, Середа был поражен тишиной во дворе. На конуре лежал разрезанный ошейник. Середа бросился в комнату.
— Где Бурко?
Маша стояла у зеркала, пудрилась. Он рванул жену за плечо н замер, увидев, как по бледным щекам, смывая пудру, катились слезы.
— Ну что ты? Слышишь?
— Слышу, — сухо сказала Маша. — Сдала я твоего Бурка в собачью будку.
— Ты… Сдала?
— Да! Надоела мне эта собачья жизнь. Я молчала все. Скрывала… А теперь скажу… — Она приблизила свое лицо к красному лицу мужа, хлестнула словами: — Не будет у нас ребенка! Никогда! Врач сказал, надорвалась после больницы…
Середа растерянно заморгал, опустился на стул.
— Сгорает все внутри, как вспомню…
Она не смогла договорить. Беспомощно обвела комнату руками и вышла.
В этот вечер Середа ходил к затону, в котором отражались бесчисленные огни домов и красная звезда телевизионной антенны, где разноголосо и монотонно пел бесчисленный хор лягушек. Потом колесил по улицам, не замечая людей, и его все время преследовала красная звезда телевизионной антенны, возвышавшейся над домами, все время можжили звуки городского оркестра. Намаявшись, он возвратился домой. Достал из погреба вино и засел за столиком в темноте на веранде. Прислушался: в доме приглушенно говорило радио.
— Пойди сюда, Маша, — позвал, помедлив, Середа.
Радио смолкло. Открылась дверь. Прошумел напряженный вздох. Молчание длилось с минуту.
— Хоть бы свет включил… — наконец отозвалась Маша.
— Не надо, — поспешно сказал Середа и загремел стулом. — Садись.
Опять прошумел вздох. Как сердце, простучали шаги. Пахнуло пудрой.
В руках Середы бутылка прыгала, как живая. Он наполнил стаканы.
— Выпьем, Маша…
— Не хочу.
Середа пошевелился и затаил дыхание.
Слышно было, как бились сердца, как шелестели листья в саду, как надрывно хохотали лягушки в затоне. Там же, в той стороне, отдаленно, покинуто завыла чья-то собака. Это всколыхнуло в сознании Середы всю его жизнь. В одно мгновение промелькнули станица, мехколонна, Машин завод, свадьба, стройка, Бурко… Все тело стало болью.
Лягушки замерли. Темноту сдавила ледянящая душу тишина.
1957
Все решено. Надо только действовать.
Врачи определили у сына туберкулез, и он, Данила Тимофеевич, употребит все средства, но сыну погибнуть не даст. Данила Тимофеевич, конечно, слышал, что теперь медицина на высоте и что уже не страшны никакие болезни. Но этому не особенно верит. Не знает, как теперь, а раньше никаких лекарств не принимали. Налегали в таких случаях на жиры. Особенно, слышал Данила Тимофеевич от сведущих людей, помогал жир собачий. И вот он решился насчет Кучмана.
Правда, о таком щепетильном деле еще можно говорить. А когда оно самого коснется, тут уж мороз всю кожу подерет.
Разумеется, сын ничего знать не будет. Старуха все устроит тайком. И все-таки муторно. Все-таки душа наизнанку выворачивается. А вызволять из беды сына надо.
Данила Тимофеевич глянул на старуху, собрал все необходимое, вышел.
На дворе смеркалось. Кругом все было серо. Задувало из-за сарая, поверху и сбоку, снегом. В застывающей луже, образовавшейся в оттепель перед порогом, схватывалась рябь. Данила Тимофеевич вгляделся: между кирпичами, в луже, ветер трепал его отражение, круглое, с широко расставленными ногами в яловых сапогах, с седой бородкой.
Стукнув хвостом и прошуршав цепью, из конуры вылез Кучман. Стал на отражение Данилы Тимофеевича и отряхнулся, засветив в глазах добрые зеленоватые огоньки. На его бурую, с седой дымкой шерсть на широкой спине, на крутолобую голову с вислыми вздрагивающими ушами падали снежинки.
«Старик», — с глухой тоской подумал Данила Тимофеевич и тут же, не давая себе размягчиться, оттолкнул собаку ногой. Вынул из кармана краюху хлеба. Кучман накинулся на хлеб цепко, как обычно, но есть почему-то не стал, отнес в зубах в конуру.
— Да, — раздумчиво протянул Данила Тимофеевич. Попробовал на пальце лезвие ножа. Вздохнул и прошел в сарай. Нащупав в полумраке верстак, на котором строгал все материалы, когда подваживал осевшую хату, положил оселок. Достал нож.
В сарае еще пахло коровой. Теплый душистый воздух першил в горле, щекотал в ноздрях. Под ногами щелестело сено. Чавкал размокший навоз, который так и не убрал Данила Тимофеевич после того, как Дмитрий отвел корову на колхозный баз. «Сознательный тоже! — Данила Тимофеевич плюнул на оселок. — Теперь бы пил молоко парное! С жирком бы!.. Оно бы усе и прошло!..»
Оселок нудно попискивал. Рука то и дело выпускала нож: то ли заходили в них зашпоры, то ли они ослабели от натуги. В тон оселку поскуливал в своей конуре Кучман. Ворочался, ворча, ветер в соломенной крыше, разоренной воробьями, и на согнутую шею и за шиворот падали колючие крупинки…
Когда нож наточил, уж совсем смерклось. У сарая навалило серый высокий, с Кучмана, сугроб. Намело на порожки. Забило, как паклей, двери. Данила Тимофеевич, злясь на вьюгу, прошел в сени. Отыскал запылившийся фонарь. Заправил его керосином. Протер стекла, открыв источенную ржой створку. Зажег и вовсе расстроился: почти у всех в станице проведен электрический свет, а он, Дмитрий, говорит, проведет тогда, когда у каждого колхозника будет свет.
— Ты делаешь, чи не? — спросила приглушенно старуха, приоткрыв дверь. — А то нагрянет, не оберешься горя…