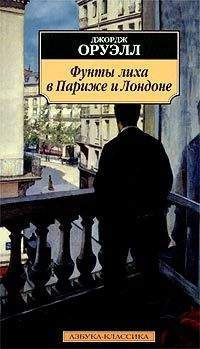— Сколько вопросов сразу! Нет, Студенникова не видал, север большой.
— Отпустите меня отсюда! Пожалуйста! Еще раз. В последний раз. Дом ваш переместился. Все съехало. Это плохая ветка. Я тут добра не жду.
— Через два-три месяца, Инна.
— Два месяца? В таком режиме? Прямо срок тюремный.
— Что вы знаете о тюремных сроках? — произнес он сурово. — И явились вы сюда сами. По моему и своему легкомыслию.
Что правда, то правда.
Но и легкомыслие подводило меня, я не узнавала и его. Я пыталась, как прежде, петь свои фамильно-фамильярные песенки, прыгая через ступеньки на чужих лестницах, но получалось плохо, песенки стали коротки и печальны.
Ленгауэр, Спицнадель,
Иссерлис, Псахис, Брейтер,
Блок, Унтерберген, Гибель,
Претро, Вакс, Гассельблат…
Тут на последней ступеньке аккуратного основательного марша «Архитектурного излишества» я оступилась, подвернула ногу, вскрикнула, уселась на площадку и разревелась.
Одна из массивных дверей открылась, вышел торговец кошками.
— О! — вскричал он. — Какие люди! Кого я вижу! Не по мне ли плачешь, рыжая?
— Я ногу подвернула.
— Мигом вылечу, у меня снадобье для олимпийской сборной в аптечке к случаю. И коньяк отменный для наркозу. Прямо судьба.
— Хромая судьба, — уточнила я.
— А вот эта книжка еще не написана.
— Не знаю такой книжки.
— Что ты вообще знаешь, дитя природы?
Он растирал мне лодыжку пахучей жидкостью из йодно-рыжей пузатой бутыленции, было больно.
— Что это ты спивала на лестнице?
— Песенку из фамилий.
— Песенки из трехбуквенных фамилий у тебя, часом, нет?
Гай, Май, Мюр,
Фет, Мей, Тур,
Чен, Жук, Жур,
Шек, Шер, Шор,
Ким, Цой, Гор,
Бек, Бен, Рак,
Щур, Зон, Зак.
— Ну, ты даешь. Как можно такое запомнить?
— Я каждый раз по-разному пою.
Квартира чем-то напоминала обиталище Мумификатора, только без его экзотики. Лиловые обои под шелк, ковры, горка с хрусталем, немыслимой красотищи люстры хрустальныя, то ли немецкие, то ли чешские.
— Это твоя квартира?
— Нет, моих родителей. Но я, само собой, тут живу.
— А где родители?
Я думала — он скажет: в Карловых Варах или на Сълнчен Бряг подались.
— Я их зафигачил в 1952-й, им там комфортнее.
— У тебя разве есть машина времени?
— Я сам теперь машина времени.
Он ждал просьбы или вопроса. Я разглядывала — явно увеличенное, вставленное в золотую рамку — фото физкультурниц в белом: парад, Красная площадь, 30-е годы, а ну-ка, девушки, а ну, красавицы, шире шаг.
— Какие телки!
— Третья во втором ряду — моя мать.
— Извини, я не знала.
— Из песни слова не выкинешь. А как ты свои фамильные сочиняешь? Дай и я попробую.
Межелайтис, Балтрушайтис,
Банионис, Чойбалсан.
— Вроде того, — сказала я. — Ты знаешь анекдот про Балтрушайтиса? Пришел он в поэтический салон, решил представиться незнакомцу и сказал с полупоклоном: «Балтрушайтис». А тот в ответ: «Благодарю вас, я уже».
— Не понял.
— Ну, тот подумал, что это глагол: балтрушайтесь, мол, балдейте, развлекайтесь, болтайте.
— Ясно. Идите и дапкунайте.
— Ты не ксенофоб?
— Уж не ксенофил определенно. Слушай, какие чудные божочки: Феб, Фоб и Фил!
Почему-то он не раздражал меня, даже казался забавным.
— То божества на три буквы, то фамилии. Странный у нас разговор.
— Обычный разговор чичирки с манюркой.
— Кто это такие?
— Вырастешь, узнаешь.
Я настаивала.
— Это лингам и йони.
— Не поняла.
Он перевел мне на настенный. И я ушла, хлопнув дверью.
Он кричал мне вслед:
— А как же коньячок? А где «спасибо»?
Новый год стремительно приближался, я писала стихи по ночам, засыпая, чтобы увидеть, как летят в пропасть глыбы льда, сбивая крюки страховочной веревки.
Мне никак не удавалось вычислить, как узнать адрес Студенникова. Погруженная в вычисления, я оставила курсовую работу в троллейбусе и получила третью двойку за первый семестр.
Я пожаловалась Наумову, что оседлость тяжело мне дается, что мне все время — с момента, как я влюбилась (я только обошла молчанием — в кого), хочется ехать, путешествовать, лететь на самолете, словно пересечение пространства приближает меня к любимому.
— Вы, дорогая барышня, впали в синдром атеистического горизонтального человека, которого вечно черт несет в перспективу, — желчно сказал Наумов.
Родители собирались встречать Новый год в Павловске у родственников, брат в том же Павловске женихался; я договорилась со своим сокурсником с Космонавтов, что приеду к нему в мухинско-джазовую компанию с винегретом на всех: решили праздновать в складчину. Проводив родителей, расстроенная двойками и связанным с ними враньем, я завалилась спать, вскочила затемно, лихорадочно соорудила обещанный винегрет, увязала посудинку с ним в узелок, принарядилась и ринулась из дома. Троллейбус уже проехал знакомую заброшенную электростанцию, когда я — о, дьявольский закон парности случаев! — обнаружила, что записной книжки со мной нет. Я вышла в полном отчаянии, перешла на ту сторону, озираясь, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, спешащих туда же, куда и я; тщетно; все уже сидели за столом, провожали старый год. Мимо промчался пьяненький детинушка с елочкой и деформированной коробкой с тортом: «Эй, куколка, пошли со мной, Новый год прозеваешь!»
Через заснеженное поле между домами, смеясь, спешили, бежали юноша с девушкой, несли гроздь воздушных шаров и шампанское, увязали в сугробах, он в дохе нараспашку, она в беличьей шубке, местные пастушка и трубочист. Их смех удалялся постепенно, как звон бубенчиков.
Из-за угла последнего, видимо, дома, за которым лежали снега до Пушкина или Пулкова, появился обнадеживающий зеленый огонек такси. Я села в «Волгу», назвала адрес подружки на Петроградской, проехали квартал, шофер включил приемник, мы услышали бой курантов. Таксист побежал на уголок к телефону — звонить жене. Я опустила оконное стекло, задыхаясь от тоски, надо же, встреча Нового года в машине, ни там, ни тут, ничья, ничья собутыльница, ничья гостья. Наклонившийся человек подал мне в окно бокал шампанского, закричав: «Merry Christmas!» — и я узнала голос торговца кошками. Шампанское было мое любимое, полусладкое, он сел на заднее сиденье, куда деваться, рыжая, ты видишь, джинджер, это судьба, что ты тут делаешь? а ты? меня надинамила моя дама, как, ты забыла адрес? браво! поехали ко мне!
— Твои родители дома?
— Само собой.
Вернувшийся шофер поразился моей прыти, не понял, как и когда успела я подцепить кавалера.
— Что в узелке? Туфли? Бархатное платье?
— Винегрет, — отвечала я.
Он налил мне второй бокал, я опьянела мгновенно.
— С Новым годом, девушка! — сказал шофер, когда торговец кошками, распахнув передо мной дверь, подал мне руку. — Удачи вам, до свидания.
— Удачи и вам, — отвечала я, — прощайте, пишите письма.
В квадратике оконной форточки темной прихожей сияли четыре звезды, и мы с торговцем кошками одновременно вскрикнули:
— Чок чогар!
— Ты играешь в нарды?
— Так ведь и ты играешь, и неплохо.
— Откуда ты знаешь?
— Не я ли резался с тобой в шеши-беши в вагоне-ресторане Транссибирского экспресса? Мне ли не знать?
— Странный восточный старичок — это был ты?! Прелестно! Ты был неузнаваем! Ты свалился тогда из отдаленного будущего? Сделал пластическую операцию? Загримировался?
— По совокупности явлений, — туманно произнес он, польщенный моим восторгом.
Квартира была пуста, темна, полна ожиданий.
— Ты говорил, твои родители вернулись.
— Я тебе наврал, чтобы ты не сбежала.
Он зажег свет во всех комнатах, люстры сияли.
— Кстати, они в некотором смысле и вправду тут. Только в другом времени. Иногда я нахожу в кресле матушкино вязание. Потом оно исчезает. В доме всегда прибрано, по субботам пахнет пирогами.
В столовой накрыт был стол на двоих.
— Какие разносолы!
Разносолы были икорно-колбасные, крабовые, дефициты из распределяльников смольнинско-обкомовско-горкомовских.
— Ты собирался праздновать с надинамившей тебя дамой?
— Ну… с дамой, во всяком случае. Не один же. Дама всегда найдется. И потом, я никогда не расставался с надеждой подцепить именно тебя. В нужный момент.
Большое зеркало без воображения, без трепетной дымки музейной прабабушкиных зеркал, аккуратный советско-гэдээровский трельяж, терпело меня, пока я в трех лицах расчесывала кудри.
— Рыжая, какая ты красотка! Откуда бархатное платьишко взяла? Не напрокат?
— Любимая тетушка из своего старинного наряда перешила.