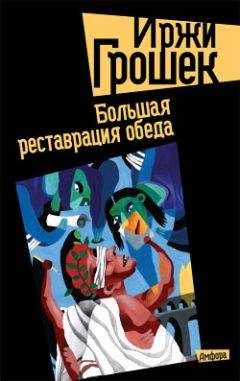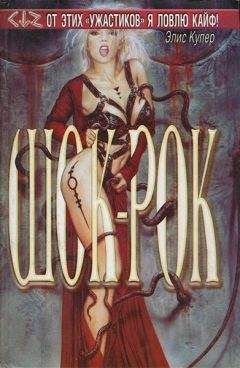И тут же красный карандаш перечеркнул весь снимок. У Главного брови выше лба полезли.
— В чем дело? Почему и на каком основании?
Найти иллюстрацию для замены в поздний час было не так-то просто.
— С огнем играете, братцы, — пояснил Мурза. — На колхозном клубе я бы такой лозунг оставил. Но на клубе славных советских артиллеристов — НЕ ДОПУСКАЮ. Они должны писать: «Наша цель — империализм». Тем более, вот здесь в аллее на щите, — он показал карандашиком где именно, — я вижу другой лозунг: «Каждый снаряд — в цель!» Вам ясно?
Мы стояли, сраженные проницательностью Мурзы, убитые своей недогадливостью. Возразить было трудно. Да что там возразить, надо было просто капитулировать. И мы подняли руки.
Мурза зрел в корень. Мурза видел насквозь, как рентген. Он пресекал поползновения быстро и непоколебимо. Он бдел. Он позволял критиковать, решительно запрещая касаться.
Мурза всегда незримо стоял над нами, указывал, направлял, учил и воспитывал. Он знал больше всех нас, больше самого Главного, больше Дирижера, чего в данный момент НЕЛЬЗЯ затрагивать и потому мог строить придирки с неистощимым рвением.
Особенно острые отношения сложились у Мурзы с фельетонистами.
Всякий раз перед появлением на страницах газеты очередного фельетона редакцию сотрясали невидимые постороннему взгляду катаклизмы.
Получив от Мурзы рукопись, наискосок перечеркнутую красным карандашом, Луков бежал выяснять отношения.
— Почему опять положил ХЕР на мой фельетон? — кричал он Мурзе с порога. — Я защищаю нашу мораль и законность. А ты…ты…
— Вообще-то цензура не должна объяснять свои действия, — строго говорил Мурза. — Но для тебя, несмышленого, поясню. Ты обобщаешь цифры, по которым можно узнать, сколько у нас в области выпивают водки за месяц, за год. А это, друг Луков, т а й н а!
— Военная? — спрашивал Луков с ехидцей.
— Государственная, — невозмутимо отрезал Мурза.
— Объясни, — просил Луков. — Почему вдруг стало нельзя писать, сколько спиртного высаживают мои сограждане в месяц? Почему?
— Объясняю. Когда ты одного пьяницу продираешь — это нормально. Пить вредно и все такое. Отдельный пьяница наносит вред себе, семье, обществу. Все тут ясно, как божий день. А вот сколько выпивает все наше общество, тут уже не личное дело. Мы не имеем права бросать тень на сограждан, созидающих новую светлую жизнь без наркотиков и алкоголя. По тем цифрам, что ты приводишь, читатель может сделать опасно-неправильные выводы.
— Какие?
— Водку у нас гонит государство на основе монополии. Значит, кто спаивает народ? Ты к этому выводу стараешься нас подвести? Так? Ах, не так! Но я сам делаю такой вывод из фактов и потому твои поползновения пресекаю!
Никогда не забуду урока, который нам всем преподал Мурза в первый день пребывания Дорогого Никифора Сергеевича.
В целом в тот раз номер складывался без особенных затруднений. Так часто бывает — боишься увязнуть в трясине мелких неполадок, а проскакиваешь с ходу, или наоборот, — ничто не сулит задержек, все катится как по рельсам и вдруг — бах! — тупик…
Где-то около семи вечера, перед тем как отправиться на торжественный прием в честь Высокого Гостя, я в последний раз решил побывать в газетном штабе — секретариате.
Еще на подходе к самой горячей точке редакции, где всегда что-то кипело, рвалось и связывалось, я понял — сегодня дело идет нормально. Шла обычная для таких минут суета.
— У Хрящева кончик не встает, — слышалось из открытой двери. Это Зинаида Максимовна Сальникова, наша боевая «закройщица», макетировала полосы газеты.
— Как не встает?! — басил возмущенный Стрельчук. — Должен встать! Обязательно должен! Вталкивайте!
— Дырка маленькая, — поясняла Зинаида Максимовна. — А кончик большой. Может, отрежем?
— Кончик Хрящева не трогать! — подал я команду в открытую дверь. — Рубите хвост Первому!
Так речи Большого Человека и Видного деятеля области втискивались в тесные газетные рамки. Мы точно знали, кому и что можно рубить и чем потом оправдывать самоуправство.
Вдруг, чуть не сбив меня с ног, мимо пронесся Лапшичкин.
— Горим! — заорал он заполошно, едва заметив мое присутствие. — Мурза портрет Хрящева снимает!
— Почему?! — спросил я, мигом осознав ужас происходившего.
— Кто знает! — крикнул Лапшичкин и наддал ходу. Я рванулся за ним.
В кабинете Мурзы царили чистота и порядок. По стенам на вбитых в рейки гвоздиках без шляпок висели свежие оттиски страничек будущего номера газеты. Они были удивительно чистые. Даже на кончики речей, которые не вошли в полосы, Мурза не замахнулся.
Зато огромный портрет нашего Дорогого Никифора Сергеевича, украшавший первую страницу, был безжалостно перечеркнут любимым знаком Мурзы, который славянская азбука знала под псевдонимом ХЕР, как букву «А» под названием «аз».
Здесь же, передергиваясь от бессильного гнева, на повышенных тонах разговор с Мурзой вел сам Главный.
— Это самоуправство! Вы за это ответите, — выкрикивал Главный слова, будто кидал их на цензорский стол.
Мурза сидел, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе.
Его лицо освещала загадочная, как у степного каменного идола улыбка.
— Скажи толком, в чем дело? — спросил я. — Фото сегодняшнее. Прямо горячее. С натуры…
Мурза пожал плечами и устало сказал:
— Я сам вижу: фото горячее. Потому и не хочу, чтобы кто-то из нас на нем обжегся. Ставьте то, которое передано по ТАССу из Москвы. Там у них все как надо. А ваше я пропустить не могу.
— Но оно с натуры, — повторил я главный наш аргумент.
— С натуры снимают голых баб. Больших Людей коммунистической партии и советского правительства снимают иначе.
— Почему? — спросил я, стараясь быть как можно спокойнее.
— Потому что никому из нас не разрешено искажать официально утвержденный государственный облик портретов. Вот, глядите, — Мурза ткнул красным карандашом в фотографию, которая лежала перед ним. — Здесь у вас на лице сколько бородавок вышло? Теперь смотрите, на московских фотографиях их только две. Кому я должен верить? Я лично верю Москве. Там работают понимающие и ответственные люди. А ваши снимки исказили облик натуры.
— Между прочим, — сказал я, — товарищ Хрящев ездит за границу. И не думаю, что для тех, кто его там фотографировал, установлен лимит на количество бородавок, которые должны быть на снимке.
— Вы предлагаете мне идти на поводу у буржуазной печати? — спросил Мурза с вызовом. — Они злобно клевещут на нас, сознательно искажают личности выдающихся и видных деятелей, а мы последуем за ними по пути отступления от наших главных эстетических принципов, так? Туда вы зовете?
— Позволь, позволь, — перебил Главный. — Что за принципы?
— «В человеке все должно быть прекрасно, — продекламировал Мурза со вкусом, — и лицо, и одежда». Так формулирует классик. Ты что-нибудь имеешь против?
— А если я попрошу товарища Хрящева лично завизировать фото? — спросил Главный с вызовом.
— И что? — отбил удар Мурза. — Может, ОН и сам не знает, сколько бородавок на его лице Главлитом разрешено показывать массам. Тогда кто отвечать будет? Ты или я? Нет, меня уволь.
Дальнейшие разговоры были бесполезными. Мурза пресекал крамолу и переступить через него никто уже не мог.
Главный взглянул на часы и обреченно махнул рукой:
— Ставьте московское фото. Только быстрее!
Мурза встал.
— Извини, Константин Игнатьевич, но я все же этот факт В А Ш Е Г О прокола утаить не смогу. Доложу по инстанциям. Время сейчас особо ответственное и любое проникновение…
— Валяй, Мурза! — зло сказал Главный. — Валяй, докладывай в Орду!
Прошли года, но я помню тот славный урок. И не потому ли свой собственный Мурза сидит во мне до сих пор, предупреждая:
— Портреты священны, их не замай!
Как же быть, если кто-то, прочитав записки хориста минувшей эпохи, узрит на лице высоких деятелей бородавок больше, чем то было дозволено показывать нашему народу ордынцами? Вы скажете: их нет? А вдруг вновь объявятся? Все ведь течет и вытекает. Самая густая демократия тоже. Придет какой-нибудь генерал… Э, да что там!
До Великой войны, когда в нашей деревне еще водились мужики — настоящие русские люди, умевшие пахать и сеять, петь и воевать, — выпивка по праздникам для них выглядела делом веселым и обязательным.
На престольные дни и после полевых работ, на октябрьскую и Первомай вся деревня — и стар и млад — гуляла с водкой и песнями. Много их знали в нашем селе. Много. Но была среди них одна, заветная, невесть кем и откуда к нам занесенная, а потому особо ценимая и уважаемая.
Пели ее радостно, многоголосо, как едва ли сейчас споют даже в Большом театре.
Запевал Вася Канцедалов — наш балалаечник, баянист, лучший в округе певец и плясун. Короче, народный артист от самой природы. Запевал голосисто и строго: