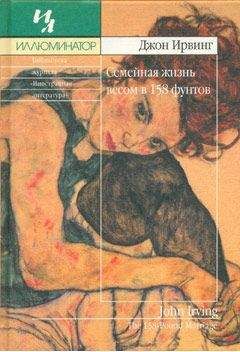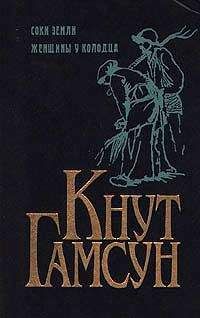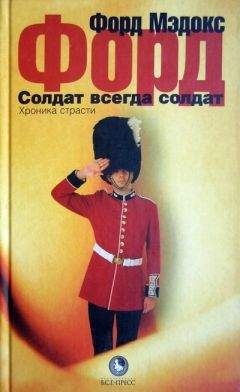В Кембридж мы поехали на метро.
«Это все равно что Strassenbahn, но только под землей», – объяснил я, но ее не интересовало метро. Она сидела напряженно и держала на коленях смятую фотографию миссис Кеннеди. Журнал она выбросила.
На Гарвард-сквер все скорбели по Кеннеди. Утч смотрела на окружающее во все глаза, но ничего не видела. Я рассказывал о своих маме и папе. Будь чемоданы полегче, мы прошли бы пешком весь длинный путь до дома по Браун-стрит; но они были слишком тяжелыми, и мы взяли такси. Я все говорил и говорил, но Утч прервала меня:
«Не надо смеяться над матерью».
Мама встретила нас в дверях, держа в руках ту же проклятую фотографию миссис Кеннеди, что и Утч. Словно это был один из тех паролей, по которым распознаешь своего человека, даже если на самом деле вы с ним подразумеваете совершенно разное.
«Ну, вот и ты, уехал и вернулся», – воскликнула мама и раскрыла объятия Утч.
Утч кинулась в эти объятия с рыданиями. Мама удивилась: уже много лет никто не плакал на ее груди.
«Иди к отцу», – сказала мне мама.
Рыдания Утч казались безутешными.
«Как ее зовут?» – прошептала мама, убаюкивая Утч.
«Утчка», – сказал я.
«О, очень миленькое имя, – проворковала мама, закатывая глаза. – Утчка, Утчка».
Я увидел свою жену только через несколько часов. Мама прятала ее от меня и от отца. Иногда мама появлялась, чтобы сделать какое-нибудь заявление вроде «Когда я думаю о том, что случилось с матерью этого ребенка…» или «Она замечательная девушка, и ты не заслуживаешь ее».
Я посидел с отцом, который объяснил мне все, что будет со страной после убийства Кеннеди в ближайшие десять лет, и все, что должно произойти, не случись этого убийства. Разницу я так и не уловил.
Утч вернули мне только к обеду; какова бы ни была причина ее истерики, она уже полностью владела собой, была спокойна, очаровательна и кокетлива с отцом, который сказал мне:
«По-моему, ты сделал правильный выбор. Боже, когда мама забегала и засуетилась, я подумал, что ты привез какую-то беспризорницу, жертву катастрофы».
Когда старый зануда перестал наконец бормотать, дом уснул.
Я выглянул на темную улицу. Должно быть, я рассчитывал увидеть там человека с дыркой в щеке, следящего за моим окном. Но для истории нужно время; мой брак был еще совсем новеньким. Некоторое время мне было суждено прожить без этого человека.
Следующим утром отец спросил:
«Как идут дела с дурацкой книгой по Брейгелю?»
«Никак», – признался я.
«Ну, и слава богу», – сказал отец.
«Я теперь обдумываю другую, – сказал я. – О крестьянах».
Тогда мы оба еще не знали, что эта идея воплотится в мой третий исторический роман, в книгу об Андреасе Хофере, герое Тироля.
«Пожалуйста, не рассказывай мне об этом, – сказал отец. – Могу тебе польстить: что касается женщин, твоим вкусом я восхищаюсь. Мне кажется, он здорово превосходит твой литературный. «Битва Карнавала и Поста», надо же! Похоже, что у Поста дела плохи. Эта девочка – вечный карнавал! Менее постную фигуру трудно себе представить. «И да здравствует Карнавал!» – гаркнул он.
Старый развратник
Но он был прав. Конечно, Утч – карнавальный персонаж во всем.
Например, как она спала. Она не сворачивалась клубочком, чтобы защитить себя; она раскидывалась во все стороны. Если я хотел свернуться возле нее калачиком – пожалуйста, но сама она не из тех, кто сворачивается. Эдит спала как кошка – уютно устроившись, вся в себе, настоящая крепость. Утч лежала, растянувшись так, словно загорала на пляже. Если спала на спине, то сбрасывала одеяло. А на животе она спала в позе человека, плывущего брассом. На боку же она походила на спортсменку, преодолевавшую барьер. Среди ночи она могла вдруг выпростать руку и поразить ударом настольную лампу или смести со столика будильник
Как-то попытался пошутить с Северином насчет причудливых поз, принимаемых Утч во сне, но он сказал серьезно:
– Ну и что ж? Я сам так сплю. Вот так, и все.
Мы с Эдит уютно и аккуратно укладывались рядом. Часто со смехом представляли, как Северин с Утч пытаются уместиться на одной кровати.
– Совершенно неудивительно, что они пошли в борцовский зал, – сказал я Эдит. – Это самая большая кровать в городе.
Эдит внезапно села и включила свет. Я зажмурился.
– Что ты сказал? – спросила она.
Голос ее прозвучал как из могилы. Я ни разу не замечал, чтобы ее лицо выглядело уродливым; возможно, это была реакция на внезапный резкий свет.
– Он повез ее в борцовский зал, – сказал я. – На прошлой неделе, помнишь, когда мы заметили, что они ведут себя как-то странно. Они ездили в борцовский зал.
Эдит задрожала и обхватила себя руками; казалось, ее сейчас стошнит.
– Я думал, Северин рассказывает тебе все, – сказал я. – А в чем дело? Разве это им не подходит? Разве ты не представляешь их катающимися по матам?
Эдит спустила с кровати ноги, встала и зажгла сигарету. Она уперлась кулаками в бедра; раньше я не замечал, какая она худенькая; на кистях и запястьях у нее выступили синие вены.
– Эдит? – спросил я. – Что страшного в том, что они пошли в борцовский зал?
– Он знает, что страшного! – завопила она.
Она, казалось, была вне себя, и было неловко смотреть на нее. Она металась возле кровати.
– Как мог он сделать это! – восклицала она. – Ведь он знал, что мне будет больно!
Я ничего не мог понять; я встал с кровати и подошел к ней, но она испуганно отпрянула, как-то боком подошла к кровати, легла и натянула на голову одеяло.
– Пожалуйста, иди домой, – прошептала она. – Сейчас же уходи. Я хочу побыть одна.
– Эдит, ты должна объяснить мне, – сказал я. – Я не знаю, что случилось.
– Туда он приводил Одри Кэннон! – простонала она.
– Кого? Что?
– Спроси у него! – выкрикнула она. – Иди! Пожалуйста, уходи, иди домой. Пожалуйста!
Я заковылял вниз, на ходу одеваясь, нашел ключи от машины и поехал домой. Я слышал, как она заперла за мной дверь спальни. Нет ничего более удручающего, чем обнаружить, что ты совершенно не знаешь человека, которого, казалось, прекрасно знаешь.
Машина Северина, как обычно, загораживала въезд. По крайней мере, они не в борцовском зале. Подходя к дому, я услышал немецкую песенку Утч. Это была ее песенка оргазма, но сейчас она звучала дольше обычного. Через стены моего дома, через закрытые окна я слышал, как кончала моя жена. Замечательное место для половых извращенцев, любящих подслушивать чужой половой акт, – лужайка перед моим домом. Что-то полетело на пол. Северин сопел как парнокопытное. У Утч прорезалось сопрано, чего никогда не подозревал, я никогда не слышал от нее подобных звуков.
Я посмотрел вдоль темной улицы и представил пошлый разговор, который мог бы состояться со случайным прохожим.
«Ничего себе, кто-то лихо там развлекается!» – сказал бы он.
«Это точно», – сказал бы я, и мы бы еще послушали.
«Вот это да! Она сейчас треснет!!» – сказал бы он.
«Это точно».
«У того парня есть силенки, – сказал бы он с завистью. – У него, должно быть, неплохой болт».
А я бы сказал:
«Да нет, это все ерунда, дерьмо собачье. Болт тут не самое главное».
А он бы прислушался к финальной арии Утч и сказал:
«Правда? Ну, если болт тут не самое главное, тогда кто знает то, чего я не знаю».
Наконец Утч замолчала. Я услышал ее надтреснутый голос и увидел, как замигал, угасая, тусклый свет в спальне. Несомненно, свечу загасило их дыхание. Я подумал о детях, о том, как могут они испугаться, если когда-нибудь проснутся от этих звуков. Я подумал о том, как много времени прошло с тех пор, как я думал о детях. И поискал на темной улице своего обвинителя, человека с дыркой в щеке. «Слышу, слышу», – сказал бы он. Как это он тогда выразился? «Я почувствую это по тому, как рукоять моего пистолета войдет в мою руку». Пожалуй, самое время было ему появиться для спасения Утч. Я бы не удивился, если бы его увидел. Я чувствовал, что позволил ее обидеть, не отдавая, впрочем, себе отчета, в чем именно заключается обида.
Я громко хлопнул дверью, войдя в свой дом, открыл стенной шкаф и погремел вешалками, хотя вешать мне было нечего. Северин удивил меня: он голый выскочил в гостиную, готовый искалечить взломщика.
– Успокойся ради бога, свои, – сказал я.
Я с облегчением подметил, что его болт выглядит более или менее как любой другой. Утч вышла вслед за ним и протянула ему трусы. Она уже успела влезть в халат. По моему виду они, наверное, поняли, что что-то случилось.
– Эдит очень расстроена, – сказал я. – Может, это моя вина. Я сказал ей, что вы были в борцовском зале.
Северин зажмурился; Утч дотронулась до его плеча.
– Но никто не просил меня не говорить ей этого, – сказал я.
Они так и стояли там: Северин с зажмуренными глазами, а Утч – глядя на него. Ясно, они знали причину негодования Эдит. Я разозлился: выходит, один я блуждаю в темноте.