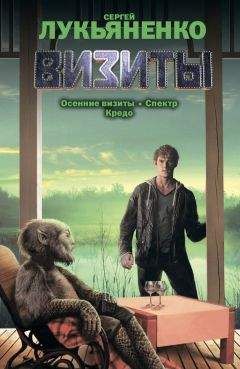“Похожа на Елену Владиславовну”, – вдруг прервала она себя, и я увидел перед нами колоколообразную старуху в беленькой детской панамке. Старуха была столь обыкновенна, что я поспешил опустить глаза на сырой солнечный песок: любое Юлино соприкосновение с обыденностью отзывалось во мне смущением, словно я подглядел какую-то неприличность. Но когда она через год или десять грустно упомянула, что Елена Владиславовна умерла, мне вдруг стало ужасно жалко и саму Елену Владиславовну, и особенно Юлю – обыденность, не щадя ее знакомых, явно не собиралась на этом останавливаться. И вот – снова лето, мы снова на скамье, только на Юлином месте дрожит лиловая наркоманка, зато перед нами по-прежнему озирается колоколообразная старуха в беленькой панамке…
Колыхая парусиновым балахоном, она двинулась под встрепанные веники деревьев и, отвесив им земной поклон, принялась, словно больная кошка, выклевывать какие-то замученные целебные травинки. И я понял, что еще миг – и я начну тихонько поскуливать, как эти трубчатые качели: мне невыносимо захотелось снова увидеть Юлю – немедленно, сию минуту.
Пересушенные листья шуршали над головой не менее мертвенно, чем под неверно бредущими ногами. Вот так же невпопад эти ноги меня несли в то давнее постыдное утро, делая вид, будто бредут, сами не зная куда. В ту пору судьба весьма услужливо убирала с моего пути препятствия к незаработанной халяве… Юля была бы смертельно оскорблена, сообщи я ей, что она служила для меня утонченным наркотиком: мир еще не скоро поймет, что оказаться сравнительно безопасным психоактивным средством – заслонять скуку и ужас мира, не уводя из него, – высочайшая миссия, доступная смертному. Уже подсевший, после безумного ночного загула, – вспышками помню, как таксист за наш счет везет нас ремонтироваться в обморочно неохватный пустынный таксопарк, и я всю дорогу сквозь неведомые индустриальные пустоши восхищаюсь его мужественной невозмутимостью (как это он умудряется сочетать сферу услуг с таким достоинством!), пока он не произносит с сожалением, не поворачивая головы: “Хороший ты парень…”; потом помню себя над цементной траншеей, внимательно вглядывающимся в трескучие бенгальские огни электросварки под пузом клейменной шашечками бежевой “Волги” и начинающим догадываться, что свою родную мужскую компанию в этих бескрайних полумраках мне теперь никогда не отыскать; потом, с обретенными откуда-то друзьями, спасаемся от милиции безвестными проходными катакомбами, – и вот я уже отражаюсь в полированном столе у какой-то строгой дамы с собакой, с рыком лязгнувшей зубами в микроне от моей руки на попытку ее погладить – к гневному ужасу хозяйки и детскому веселью нашей компашки, – и вот, еще нетрезвый, но уже этого не чувствующий, я бреду вроде бы сам не зная куда, по каким-то сталинским полуокраинам, в ту пору казавшимся мне чуть ли не еще более унылыми и прозаическими, чем хрущевские: я еще не знал, что значительными и ничтожными бывают не предметы, а лишь ассоциации, которые они у нас вызывают, и сейчас, удаляясь в вечность и обращаясь в фантом, сталинская эпоха своим убогим ампиром пробуждает во мне ощущение некоего грандиозного испытания, еще раз открывшего слепому миру, что горстка придурков, зачарованных вульгарнейшей грезой, способна поставить на колени миллионную бесфантомную массу.
Однако, непротрезвевшими ногами приближаясь к перекрестку, где я уже однажды, тоже “случайно”, подглядел, как Юля перебегает дорогу перед наглой зеленой машиной – в своем отглаженном рубчато-синем костюмчике… Мы к тому времени уже делали вылазки в
“низкое”, где только и возможно завершение любви: она помогала мне выбрать немаркую футболку по случаю Катькиного отъезда, пренебрежительно отзывалась о дамском костюме с шароварчиками вместо брюк (“Кому хочется быть клоуном!”), делилась, что никогда не смотрит на водителя, перед чьей машиной торопится прошмыгнуть… “А вдруг он мне кулак показывает?” – “И что?” -
“Чего это он мне будет кулак показывать!” Однажды она даже увлеклась до того, что поведала о своей попытке лечить простуду горчичниками – горела вся… И осеклась на неприличном слове
“спина”. Впоследствии она при помощи тех же горчичников вечно боролась с задержками – пылали два рубиновых прямоугольника на спортивной пояснице…
Похмельная дурь мешала мне оценить слишком уж озабоченную целеустремленность слишком уж редких прохожих, и только под ее окном я наконец догадался посмотреть на часы – семь. “Закричи иволгой”, – посоветовал бы Славка, но частичная невменяемость подсказала мне свистнуть в два пальца (моя искушенность в хулиганских искусствах неизменно вызывала умильное Юлино сострадание: “Тяжелое детство…”), – а если выглянет не она, сделать вид, что это не я. И ведь был я уже и не совсем мальчишка, таскал дочку в садик, “работал над диссертацией”…
Наркотик, наркотик.
Настолько могущественный, что одного вдоха из недостаточно промытой ампулы оказалось довольно, чтобы – замученный, облезлый барсук с седым потеком изо рта – я вновь повлекся тем же путем.
И судьба вновь взялась мне подыгрывать, не мне – овладевшему мною призраку: в обширном оранжевом жилете и секондхендовых шароварчиках, о коих когда-то отзывалась так презрительно, Юля формировала граблями воздушную кучу банной листвы. О витязь, то была Наина! Нет, она была нисколько не “хуже” Катьки, но – мы способны любить лишь собственные фантомы, а новую Юлину наружность моя фантазия еще не успела перегримировать.
Я едва не нырнул в растрепанные веники кустов, но Юля меня уже углядела и – сначала замерла, потом вспыхнула, потом просияла своими новыми, оптимистически продвинутыми вместе с верхней губой глазурованно-белыми и необыкновенно крупными зубами для бедных, обрамленными вверху и внизу узенькими клычками желтого металла (богатеям-то научились вставлять совсем как настоящие – кривые, желтые, траченные кариесом…). Я сумел изобразить несколько разухабистое: “Ба, кого я вижу!” – и джентльменским жестом попытался принять у нее грабли. Она воспротивилась
(грабли – символ независимости), и я все с той же
“бесхитростной” разухабистостью плюхнулся на ближайшую скамейку.
Готовая укусить ее муха (“Давай, давай, иди, у меня работа!”) жужжала где-то над ухом, но я должен был некий бред довести до конца. Она продолжала отделывать шевелящуюся кучу, но движения ее уже сделались скованными, вернее, излишне танцевальными. Она всегда нежилась, когда ею любовались (не любова-лбись, а любовал-сбя, поправила бы она: это вы, мужчины, хотите обольщать всех подряд), однако малейшего пафоса смущалась. Когда я ее впервые целовал в положении лежа, ее лицо в городских отсветах неизвестно каких реклам вдруг показалось мне таким прекрасным, что у меня вырвалось невольное: “Какая ты красивая!” – и она немедленно отреагировала: “Не видно лишних подробностей”.
Последнее слово ради пущей небрежности она произносила примерно так: “пдробностей”. Однако сейчас с каждой минутой поддающее жару солнце правды высвечивало все подробности, не отделяя чистых от нечистых.
По-крестьянски почернелые Юлины руки, выныривавшие из огромных проемов долгополого оранжевого жилета, сильно расплылись, и на них уже наметились чехлы свисающей лишней кожи. В красиво полневшей дамской шее проступила некая моржовья текучесть.
Волосы… Помню ее с прической “лампочка”, с прической “желудь”…
“Эта голова мне определенно нравится”, – не раз поддразнивал я ее простодушным приговором, который она однажды вынесла перед зеркалом своей укладке. Но сейчас на ней была прическа “ни то ни се”. В отличие от златокудрой Катьки, Юля была именно беленькой
– под ласковую руку я именовал ее белокурой бестией, – теперь же она светилась бледно-оранжевым, в тон жилету, пламенем, а в проборе, точнее, в распадении… Конечно же это была седина…
Нелегко мне было ее ампутировать – но ведь она же первая начала.
Однако, прослышав, что у нее умерла мать, я наступил на горло оскорбленным амбициям и позвонил ей с предложением любых услуг, начиная от денежных. Я готов был непроницаемо снести самый оскорбительный отказ, но в М-глубине что-то все же оборвалось, когда я услышал в трубке не убитую даже горем ту особую ее интонацию, которая у ее матери переходила в некое подобие простодушной крикливости: “Руку сломила. Там на взгорочке были копытца натоптаны, а я возьми…” – ее “мамаша” готова была с детской доверчивостью отвечать на формальный вопрос полузнакомого человека. Но не скрою, известие о ее смерти обдало меня холодом больше оттого, что Юля давно страшилась остаться с отцом вдвоем – “мы с ним поубиваем друг друга”. И я на разные голоса навязывал и навязывал свою помощь, а она октавой выше обычного повторяла как попугай: ничего не нужно, зачем?.. Но я продолжал звонить ей каждый вечер, и она, хотя и отвечала совершенно мертвым голосом, разговор по своей инициативе все же не прерывала, несмотря на то что говорил я, может быть, с чрезмерной ласковостью: все, дескать, и в самом деле проходит, перемучаешься – и снова начнешь радоваться, улыбаться… “Мне это не нужно, – отвечала она, но полной уверенности в ее голосе я уже не слышал. – Мне лишь бы отца дотащить. Его в больницу предлагают взять, но я хочу, чтобы это дома произошло…” – “Ты сейчас замучена. А потом снова оживешь”, – почти сюсюкал я и читал ей Фета: “.Для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа”. И чувствовал, как она затихает: преданность возвышенной ауре, окружающей стихи, не умирала в ней – они и впрямь святые, эти отличницы из низов.