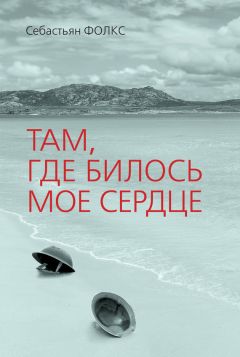Вариан умолк. Во внезапной тишине я мысленно перенесся в те места, в изрешеченные снарядами зимние ландшафты. Не помнил я, чтобы в меня сзади кто-то стрелял, я вообще мало что помнил. Однако это ничего не значило. Шентон парень смелый и сообразительный. Если иначе никак, может пойти на крайние меры.
— Неконтролируемая агрессия проявляется по-разному, — заговорил Вариан. — Одни начинают так себя бояться, что отказываются дальше воевать, вспомни Уоррена. Другие грозятся всех прикончить, а потом сами не помнят что наболтали. Но бывают и случаи по-настоящему опасные своей непредсказуемостью агрессивности. В Малайе человека, впавшего в неистовство, называют «амок». Он бежит сам не зная куда, убивая всех встречных. Но хочу подчеркнуть, Роберт, что это все нисколько не повлияло на мое отношение к тебе.
— Теперь я понял, почему ты пустил меня командовать ротой. Из-за этой истории.
— Да, верно. Мне нужно было знать наверняка, что ты здоров, совсем здоров.
— Ты мог отправить меня к медикам.
— Мог. Но у меня было слишком мало хороших офицеров. А ты был с нами с самого начала. Ну и привязался я к вам, к «надежной пятерке». Наверное, вы были для меня неким талисманом. А насчет медиков… Я боялся медкомиссии, если бы они узнали все факты, могли отправить тебя домой. И еще было не до конца понятно, что надумает сказать Билл. Вот я и решил, что сами как-нибудь разберемся. В семейном кругу, так сказать. — Он на миг опустил глаза. — И… по-моему, ты был рад, что остался с батальоном. Или нет?
— Рад, конечно. Домой я точно не рвался.
— Ты считаешь, я зря тебе рассказал? Спустя столько лет?
— Нет, не считаю.
— Как же давно все это было.
Я обвел взглядом кабинет, книжные полки. Среди прочих книг там стояли знакомые томики стихов, сборник новелл Мопассана, те самые книжки, которые я впервые увидел на походной полке в Лилле.
Вечером присутствие гостей не позволило продолжить наши с Варианом воспоминания. А утром я сразу после завтрака отбыл, клятвенно пообещав приезжать и больше не пропадать.
Я думал о нашем разговоре в кабинете. Наверное, как только я сообщил, что еду, и назвал дату приезда, Вариан две недели раздумывал, о чем стоит мне рассказывать, а о чем нет. Он мог и не открывать мне всей правды, но, вероятно, почувствовал, что меня что-то гложет, и мне, говоря словами доктора Перейры, необходимо «восстановить цепочку событий». Я не был на командира в обиде. Он поступил как человек по-армейски дисциплинированный, но при этом добросердечный.
На следующий день в поезде на Лондон я выпил пол-литра белого вина, оказавшегося очень приличным. Веки мои вскоре отяжелели. Слабые осенние лучи, падавшие сквозь стекло, убаюкивали, слегка ворсистое, с мягкой обивкой кресло и слабый запах дизеля независимо от моей воли уносили меня вспять, в былое… В лето 1944 года, в наш с Дональдом отпуск на берегу синего моря…
Надежды Дональда на благосклонность Лили Гринслейд оказались напрасными. Уже тогда, на пути домой из клуба, Дональда должен был насторожить этот ее церковный гимн. Мой друг звал свою даму на прогулки у моря, но даже самые невинные знаки симпатии Лили пресекала и позволяла себе разве что взять его под руку.
Привлекательная женщина, всего сорок лет, жизнерадостная, остроумная, несмотря на весь свой снобизм. Оставалось только гадать, что мешало ей дать себе волю. Неаполитанский залив и полоски пляжей с обеих его сторон, протянувшиеся на сотни миль, манили отбросить условности, искушали практически каждого, кто там оказывался. Просто держаться за руки? Это же отрицание самой жизни, тем более, когда вокруг смерть и разруха, тем более, когда рядом такой добрый и деликатный кавалер, как Дональд. Что заставляло Лили так осторожничать? Религиозные взгляды? Неудачный роман? Или боязнь вторжения в ее личное пространство? Наверное, она считала, что дорога в рай или к земному счастью не должна зависеть от удачи в любви, что надежнее делать что-то полезное для людей, а главное, проявлять побольше самоотверженности.
К работе в Красном Кресте Лили относилась с благоговением, строго выполняла все официальные предписания и не менее строго следила за моральным обликом своих сотрудниц. Негодовала, когда Луиза вечером выходила гулять, хотя не имела права диктовать ей, как себя вести во внерабочее время. В Луизе сохранилось еще много от подростка, но ей было двадцать шесть лет. Всего на два года моложе меня. А я в свои двадцать восемь уже командовал ротой.
Во время одного из наших скромных пиршеств на парапете я поддался уговорам и начал рассказывать про свое детство. Луизу, кажется, потрясло, что мальчик жил и рос без отца. Как так? Я не знал, что ей ответить. Сказал, что раз отца не было, то и рассказывать об этом нечего. Она с недоверчивым изумлением слушала про мое житье на чердаке у мистера Лиддела. Она хохотала, когда очередь дошла до шотландского колледжа. Я рассказал про анатомичку и про наши пивные пирушки, кое-что сгладив, а кое-какие детали опустив, чтобы ее не пугать. Ей все было так интересно, что я осмелился немного рассказать про девчонок, про свои влюбленности, разочарования и раскаяния. Рассказывая обо всех этих своих приключениях и переживаниях, однажды я почувствовал нечто новое. В ее взгляде мелькнула голодная обида, как будто теперь, когда она узнала обо мне что-то очень для себя важное, ей вдруг захотелось этим завладеть.
Именно в тот день, насколько помню, я в первый раз ее поцеловал. Помню, я испугался, что все испортил, что отныне я для нее не уникум, у которого с ней по волшебной случайности так много общего, а такой же солдат, как все, которому нужно только одно.
Губы ее набухли от желания, от прилившей крови. Я почувствовал вкус ее языка, и вкус своего у нее во рту. Это была сама жизнь, это было божественно. Я потерял себя, я себя нашел.
— Роберт, требуется твоя помощь, — сказала однажды Лили. — Мы не можем достать пенициллин. У нас несколько инфицированных больных. С тяжелыми ранениями. Их переправили сюда из Кассино. Совсем тяжелые без пенициллина не выкарабкаются, а их еще можно спасти.
— Разве в Неаполь не привезли медикаменты?
— Наверняка привезли, но до нас они так и не дошли.
— А ты поговори с представителем союзнической военной администрации.
— Начальник уже поговорил. Ему велели обратиться в другую инстанцию, там — в третью. Никакого толку от всех этих бюрократов. Их не проймешь.
— От меня-то что требуется?
— Придумай что-нибудь. Нам бы продержаться до новых поставок. Нужно не так уж и много. На двадцать человек, курс две недели.
Я не смог удержаться от смеха.
— По-твоему, я способен раздобыть коробку с подпольным пенициллином? В Неаполе? С моим-то итальянским? Всадят нож в спину, вот и весь разговор.
— Возьми с собой переводчика.
— А что, это мысль. Возьму Луизу. Еще мне нужна машина. На нашей Дональд поехал в Бари.
— Машину я найду. Но Луиза должна…
— Без Луизы я не поеду. Ничего с ней не случится, обещаю.
Лили посмотрела на меня так, будто я поставил ее перед страшным выбором. Открыла рот, собираясь что-то сказать, закрыла.
— Луиза, она ведь… — наконец, произнесла она, но снова осеклась.
— Так как же?
Она все сверлила меня взглядом. Наверное, прикидывала, стоит ли рисковать девичьей невинностью ради горстки раненых солдат. Ведь были на слуху жуткие истории про марокканцев из французского экспедиционного корпуса, которые в деревнях Кампании насиловали всех подряд, женщин, девочек и даже стариков. А канадцы с американцами? Ни одной женщины не пропустят, пристают с домогательствами. Кто даст гарантию, что эти раненые из союзнических войск будут вести себя лучше, когда их вылечат? Достойны ли они таких хлопот и жертв?
Я подозревал, что Лили и меня считает злодеем, который успел заморочить голову бедной крошке.
Не лучше ли позволить раненым умереть, ведь праведность Луизы может стать залогом спасения их солдатских душ?
— Так как же, Лили? — повторил я. — Будем считать, что договорились?
— Ладно, — сдалась она. — У Луизы выходной в субботу. Свободная машина найдется.
Я приехал за Луизой рано утром. Красный Крест предоставил мне «родстер». Руль иногда заедало, но мотор приятно урчал и работал исправно. Выбравшись с узеньких улочек на открытую дорогу, я прибавил газу. У сидевшей рядом Луизы лицо было взволнованным, я надеялся, что от радости. Я заметил в уголке глаза слезинку.
Поля, мимо которых мы проезжали, в большинстве своем были защищены строем разросшихся фруктовых деревьев, оплетенных к тому же для большей надежности какими-то лианами. А по тем, где никаких преград не было, ползали человеческие фигурки, искали съестное. Может, старые, не совсем осыпавшиеся колосья, может, побеги молодой травки. Добычу тут же отправляли в рот.