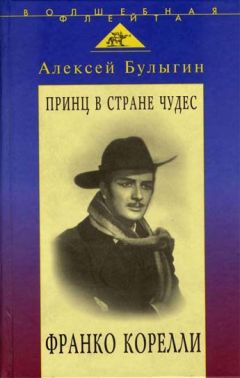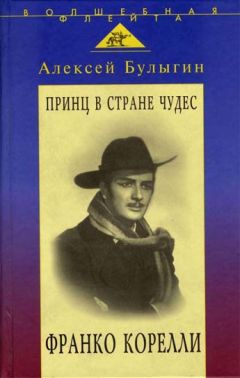– Но не в моей же постели, – возразил он, – и там не Мандрас. Это какой-то кошмарный старик с чесоткой и забинтованными ногами. Я уже посмотрел.
Позже тем же утром доктор Яннис, посасывая трубку и фыркая при каждом предварительном диагнозе и прогнозе, слушал отчет Пелагии обо всем, что она совершила. Закончив, она залилась румянцем, истолковав отцовский взгляд как строгий выговор за самонадеянность. Потом он прошел в комнату и тщательно осмотрел пациента, обращая особое внимание на ноги.
Он ничего не говорил, пока не взялся перед уходом за свою потрепанную шляпу. Пелагия нервно мяла тряпку, ожидая приступа бешенства.
– Если бы я умел готовить, – сказал он к ее изумлению, – я бы поменялся с тобой работами. По сути, я мог бы отойти отдел. Молодец, корициму, я еще никогда не был так удивительно горд. – Он поцеловал ее в лоб и театрально отбыл, пристально вглядываясь в небеса, словно ожидая бомбардировки. Ему нужно было присутствовать на заседании Комитета обороны в кофейне.
Дросула, глядя сверху, улыбалась Пелагии, которую настолько переполняли облегчение и удовольствие, что у нее дрожали руки.
– Я всегда хотела дочку, – проговорила Дросула. – Ты же знаешь этих мужчин, они-то хотят только сыновей. Тебе повезло, что у тебя такой отец. Мой, насколько я помню, был совершеннейшей собакой и вечно напивался ракией. Я молюсь святому, чтобы Мандрас поправился, и тогда ты станешь моей дочкой.
– Как только станет можно, – сказала Пелагия, беря ее за руку, – мы должны выводить его на солнышко и к морю. В случаях, подобных этому, улучшение наступает от душевного состояния.
Дросула отметила, что Пелагия благоразумно обошла ее замечание, но простила ей это. Достаточно было видеть эту юную женщину, расцветшую той необычной прелестью, что возникает из внезапного ощущения – человек нашел свое призвание.
Они говорят про меня, будто меня здесь нет, – Пелагия, доктор и мать. Они говорят обо мне, словно я – дряхлая развалина или без сознания, будто я – беспамятное тело. Я слишком устал и отчаялся, чтобы сопротивляться унижению. Пелагия видела меня голым, а мать моет меня, как грудного ребенка; меня мажут мазями и притираниями, жгучими, успокаивающими и вонючими, словно я какая-то мебель, которую натирают маслом и воском, заделывают червоточины, набивают и чинят ее подушки. Мать проверяет мои испражнения и говорит о них с моей обрученной, меня кормят с ложечки, потому что у них не хватает терпения смотреть, как я борюсь с трясущимися руками, а я спрашиваю себя: можно ли считать, что я хоть в каком-то смысле существую.
Видимо, нет. Всё стало сном. Между мной и ими пелена, они – тени, а я – мертвец, и эта пелена, наверное, – саван, от которого меркнет свет и туманится зрение. Я был на войне, и теперь между мной и теми, кто не был на ней, – пропасть; что они могут знать? С тех пор, как я повстречался со смертью, видел смерть на каждой горной тропе, разговаривал со смертью во сне, я понял, что смерть не враг, а брат. Смерть – красивый обнаженный мужчина, как Аполлон, и ему не нравятся увядающие от старости. Смерть – любит совершенное, молодых и красивых, хочет гладить наши волосы и ласкать жилы, что крепят к костям наши мускулы. Смерть делает всё возможное, чтобы встретиться с нами, наши лица радуют ему душу, он стоит на нашем пути, бросая нам вызов, потому что ему нравится чистый, справедливый бой, а после боя ему приятно дружески помочь нам, потрепать по плечу и заставить посмеяться над мелочностью и глупостью живущих. Когда битва заканчивается, он бродит среди мертвых, поднимая их, увенчивая лаврами чело самых миловидных, и собирает их всех вместе, как своих детей, и уводит пить вино со вкусом меда; он дает им такое чувство соразмерности, какого у них никогда не было при жизни.
Но меня он не взял, и я не знаю, почему. Наверняка, я был достаточно храбрым. Я никогда не уклонялся от опасности – даже когда тело мое уже было разрушено. Думаю, я остался в живых потому, что наши командиры были очень умны; полагаю, я остался в живых оттого, что Смерть любит итальянцев. Он подговаривал их выдвигаться на позиции и располагать их в ряд в тех точках, где мы были наиболее сильны, и мы косили их, как пшеницу. А наши генералы заставляли нас обходить их с флангов, переигрывать в маневре, ставить засады, исчезать и появляться. Наши генералы создавали трудности для Смерти, и поэтому вместо того, чтобы поразить меня пулями, он за несколько месяцев сгноил мое тело настолько, что другим отпустил бы на это лет шестьдесят. Холод, грязь, паразиты, голод, горе, страх, бураны с льдинками острее стекла, дождь, такой плотный, что в нем могут плавать рыбы, – все это не имеет смысла объяснять, потому что гражданский даже представить этого не сможет.
Знаете, что меня поддерживало? Пелагия и ощущение красоты. Пелагия означала для меня дом. Понимаете, я сражался не за Грецию, я сражался за дом. Я преодолевал всё это, думая о том, что смогу вернуться. К несчастью, моя мечта о Пелагии была лучше самой Пелагии. Я ведь вижу и слышу, что ей противен ее вернувшийся герой, и еще до того, как ушел, я понимал, что недостаточно хорош для нее. Это значит, если она и любит меня, то снисходит, совершает жертву, и это невыносимо, потому что заставляет меня ее ненавидеть, а себя презирать. Я снова уйду, когда поправлюсь, чтобы вновь обладать мечтой о Пелагии и любить ее без горечи, как я любил ее в тех горах, когда воевал за нее и за мысль о доме, и когда вернусь, я буду другим, я буду новым, потому что на этот раз точно удостоверюсь, что совершил что-то настолько великое, что даже королева будет умолять меня взять ее в невесты. Не знаю, что это будет, но это должны быть слава и одно из чудес света – они окутают меня, роскошные и великолепные, как сокровища святого.
Я должен снова уйти и потому, что самое главное: мне нельзя было идти домой. Я пошел, оттого что выпала возможность, потому что пойти домой – это как ледяная вода после проведенного в море дня, в августе, без единого ветерка. Мне нужно было окунуться в шелест олив, звяканье козьих колокольцев, стрекот сверчков, вкус ромолы, запах соли. Мне нужно было набраться сил, постоять босиком на земле, откуда я произошел, только и всего.
Дело в том, что мою часть немцы уничтожили у горы Олимп. Уцелел я один, и когда сидел там среди тел моих друзей, мне было видение Пелагии. Говорят, это недоедание и сильное напряжение вызывают подобные вещи, но для меня все было так, будто она стоит передо мной и улыбается. Если бы она не сделала этого, я бы отправился в другую часть и воевал бы с немцами до самых Фермопил, но тут я вдруг понял, что мне нужно добраться до дома, хоть я и не знал, куда идти. Я поискал среди убитых и нашел ботинки получше, подошвы у них отставали, но они были лучше моих. Я надел их и пошел на юго-запад.
Каждый вечер я замечал, где садится солнце, а утром – где оно встает. Я делил полукруг, выбирал ориентир и шел. В полдень я сверялся, что иду слева от солнца. На дороге царил хаос отступления – подыхающие ослы, брошенные машины, ранцы и оружие, жертвы пикирующих бомбардировщиков; и так я шел через страну по бескрайним диким просторам, из которых, я знаю теперь, состоит большая часть Греции. Вначале встречались колючие заросли и карликовые деревья с уже лопавшимися почками, но где-то за Элассоном начался подъем, и там – безлюдная, заросшая соснами глушь, теснины, водопады, ущелья. Край ястребов и летучих мышей. Там были топи, полные торфянистой воды, и дикие цветы, горные склоны, скользкие от сланца и щебня, и козьи тропы, вдруг необъяснимо обрывавшиеся на краю пропасти. Ботинки, что я взял, развалились, и вот тогда я намотал на ноги бинты. По ночам, когда я мерз в пещерах, Пелагия лежала рядом со мной, а утром шла передо мной на юг. Я видел, как у нее на бедрах колышутся юбки, я видел, как она наклоняется, чтобы сорвать цветок, а когда я падал, она улыбалась и поджидала меня.
В тех краях есть медведи, там водятся дикие собаки, а может, это волки, там рыси и олени. Бывали моменты, когда я зубами рвал сырое мясо брошенной добычи, а раз орел выронил голубя к моим ногам и камнем упал за ним, так что когтями оцарапал мне руки, когда я кинулся за его жертвой. Еще в этих заброшенных местах живут люди, – люди, что как животные. У некоторых светлые волосы, а понять их невозможно – так странно они говорят. Они живут в маленьких домиках, сложенных из камня или построенных из дерева, одеты в лохмотья и питаются жутким варевом из мяса и корней, что готовят в древних горшках, у которых трещины замазаны грязью. Эти люди бросались в меня камнями, но когда я встал на колени и показал пальцем на рот, они отвели меня и ласково накормили, как ребенка. Один из них дал мне это одеяние из шкур.
Пока я шел, мне стало казаться, что тело мое разваливается на части, а я схожу с ума. Я больше не знал, что в точности происходит. Я видел не только Пелагию, но и угрожавших мне странных чудищ с утробами, ощерившимися рядами зубов. В одном месте я проходил водопад – такой высокий, что он обрушивался с ревом моря во время дикого шторма. Он падал в водоворот, где вода кружилась и вертелась, заглатывая все, что попадает в нее, и другого пути на юго-запад, кроме как переплыть его, у меня не было. Слева возвышался утес, так сильно выдававшийся вперед, что никто не смог бы взобраться по нему, даже коза, и мне казалось: там наверху – трехголовое существо, что собирается сожрать меня. Я стоял без единой мысли в голове, разрываясь между влекущим меня к дому отчаянием и страхом перед водоворотом и чудищем. Я увидел, как Пелагия пошла вперед, казалось, прямо по воде, как Господь наш, и понял, что под водой в основании утеса есть уступ, и я перешел так легко, словно пробирался вброд к лодке на отмелях ассосского залива.