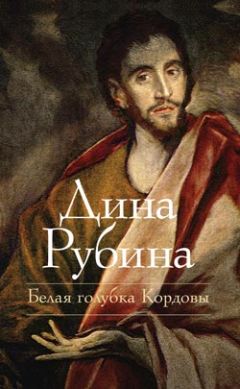Но если все тело хочет радости, прыжков и беготни, то лучше примчаться к водной станции «Динамо», где спасателем работает Риткин малахольный дружок Степа — долговязый пожилой дылда с перекрученными венами на желваках загорелых рук, в вечной засаленной ковбойской шляпе на бритом черепе. Когда он снимает шляпу и вытирает платком голову, можно попросить потрогать паутину шелковых шрамов — у Степы весь череп исполосован так, что даже волосы не растут. Производственная травма, ныряем вслепую, без страховки, важно говорит он.
У Степы всегда можно было разжиться тыквенными семечками; завидя Ритку, он немедленно отсыпал ей горсть в ладонь. Называл ее не иначе, как «барышня». Именно Степа научил девочку грамотно плавать, делать утопленникам настоящее искусственное дыхание, а позже пристроил ее в секцию фехтования в обществе «Авангард». («Почему — фехтования?» — спросила Ритка, когда впервые прозвучало это слово. Они сидели на дощатом причале лодочной станции и смотрели, как солнце, валясь за противоположный берег, выжигает в волнах Буга шипящую кровавую рану. «А красиво, барышня», — пояснил Степа. Нашарил возле себя сухую веточку и показал, не поднимаясь: «Выпад! Большой батман! Малый батман! Захват! Отбив! Укол!» Он был законченным романтиком.)
Другой великовозрастный Риткин приятель — да и не приятель даже, а друг сердечный, — был шестидесятилетний подросток Витя-Голубь. Витя разводил голубей. Во дворе своего дома в Старом городе — дома, похожего на голубятню, — он выстроил голубятню, похожую на дом. Это был крашенный белейшими белилами голубиный дворец на врытых в землю бревнах, с удобной крепкой лестницей, довольно широкой площадкой перед дверцей в саму голубятню, с красным флагом, на котором сверкал, вышитый серебряными нитями, белый турман. В этом голубином дворце девочка проводила большую часть своего лета. Тщедушный тишайший Витя-Голубь становился тут соловьем-разбойником, от сверлистого свиста которого пригибались травы и клонились деревья. Но главное, он был настоящим голубиным ученым, исследователем, заводчиком милостью божьей. А тот уж, как известно, голубям благоволит.
— Вот увидишь, — говорил он Ритке, — мы еще выведем с тобой настоящего орловского белого турмана. От них все идет, понимаешь? Все голубиное мироздание: и краснопегие ленточные, и московские серые турманы, и орловские бородуны, и турманы чернопегие… Сейчас их не встретишь, нет. Прошло их время…
— А Пуховочка? — была у Ритки здесь своя страсть, любимица, белая голубка, пушистый комочек с темно-вишневыми глазами. Умещалась голубка у Ритки на ладони. Слетала всегда на ее плечо.
— Э! Пуховочка — орловский белый, да. Но не турман. Смотри: головка у нее мелкая, гранная, лобик широкий. Но главное — клюв. Клюв у нее короткий и широкий, и нижняя чавка… ну о-очень маленькая. А у чистопородных турманов нижняя чавка широ-окая! — и Витя-Голубь прикрывал глаза с почти такими же, тонкими, бледными, как у Пуховочки, веками, уносясь мечтами в свое голубиное царство, небесное царство белых турманов…
Когда родился ее спасенный дедом сын, она перед сном каждый вечер ему рассказывала, и, главное, показывала кого-нибудь из персонажей своего детства. Многие тогда еще были живы, но в рассказах ее обретали более выразительные, более значительные черты. Была Ритка незаурядной актрисой, меняла голоса, выражение лица, походку, и яркие цветистые монологи, сдобренные акцентом и присущими данному человеку словечками, изливались из нее, согласно представляемому образу. Так что впоследствии он не способен был отделить в памяти персонажи и события своего и маминого детства.
Чаще всего просил рассказать про Витю-Голубя, про его голубятню, безжалостно снесенную племянником после внезапной Витиной смерти. Тот умер, сидя на площадке перед дверцей в свой Храм, и немедленно со всех концов неба над Винницей к нему стали слетаться его голуби, будто окликал и созывал их уже потусторонний, никому из живых неслышимый Витин свист. И пока соседи не поняли — что произошло, Витя так и сидел — голубиный бог, — чья душа, подхваченная десятками крыл, уже неслась на всех ветрах к Главному голубиному заводчику — обсуждать задачи выведения настоящих белых орловских турманов.
* * *
Синагогу разбомбили в самом начале войны. Ее так и не восстановили. Но на Замостье, около рынка, неподалеку от вокзала, была хибара — обычная украинская хатка, беленая, чуть подголубленная (в известку добавляли синьку), — куда по праздникам наведывалась Нюся. Смешная и странная картинка запомнилась маленькой Ритке: толпа старых евреев во дворике, задрав головы, смотрит вверх, где в слуховом окне маячит староста молельного дома, исполняющий уж заодно обязанности и раввина. С хитро закрученным бараньим рогом в руке он, тоже задрав голову, всматривается в зеленое меркнущее небо. В толпе разлита напряженная тишина… Все чего-то ждут, что-то выглядывают в стремительно темнеющем небе: дождя? самолета? парашютиста?
— Мам… — Ритка дергает Нюсю за руку. — Чего люди ждут?
— Ша! Первой звезды, доченька.
Но вот староста в слуховом окне голубого домишки значительно крякает, набирает в грудь воздуху, подносит к округленным усам бараний рог… И натужные смешные, неприличные звуки несутся из слухового окна… Девочка хохочет, и напрасно мать пытается пристыдить ее. Заливистый хохот, перекрывая звуки святого шофара, возносится к небу — отнюдь не мольбой о прощении.
«Что это значит, когда в рог трубят?» — спрашивал сын. Ритка небрежно махала рукою: «А, их стариковские дела…»
Их стариковские дела с удвоенной силой возобновлялись весной, когда таял снег, и грязные льдины, покачиваясь и ныряя, плыли по темному Бугу, и всюду бежала вода… И сильный тревожный запах весны, еще не тронутый запахом обновленной известки, распирал жадные молодые ноздри.
Тогда начиналась какая-то горячечная деятельность возле домика-пекарни; подъезжали подводы, груженные мешками с мукой, лошади красили и без того грязный снег янтарными струями, и дюжие грузчики, взвалив мешки на спину, спускались по трем ступеням вниз — скособоченный домик оползал, зарывался в землю. И затем там, в его печеной утробе, целый месяц шла напряженная работа, и дымила труба, и сухой мучнистый дым трепало весенним ветром.
Наконец дядя Сёма брал чистую наволочку и шел покупать вот это, которое и в суп, и в чай, и просто похрустеть… «Вы сколько взяли?» — «А я два кило…» — «У нас она так идет, так идет…»
Дядя Сёма приносил в дом мацу в наволочке — припрятав за отвороты пальто. И так же воровато прятал пакет в буфете, на самой верхней полке. Чего он боялся — фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды, а также медалей «За отвагу» и «За взятие Будапешта»? Вот уж не властей. Дядя Сёма смертельно боялся тети Лиды, которая была хорошей бабой, но — так он подозревал — на мацу, это худосочное производное воды и муки, скудный хлеб наш в пустыне, — посматривала косо. Нет, она не думала, что евреи добавляют в мацу кровь христианских младенцев. Евреи — нет. А вот еврейки… кто их знает, этих жирных курв, на которых, чтоб их разорвало, Сёма посматривает во все глаза и поглаживает их жирные шеи, якобы смахивая с них кисточкой волосы! Вот же не прогнал он Нюську с ее нагуленным дитём. Не прогнал, и все время подсовывает денег, и Ритку балует, так что уж все соседи говорят. И вот чует, чует сердце, что похаживает он к Нюське, прилаживается к ее толстой заднице, щиплет, щиплет ее мяса.
Скандалы с тетей Лидой вспыхивали раза два в месяц, когда она чуток выпивала, был такой грех. Выпивать ей не следовало; она выпивки не держала, квасилась, материлась и становилась нестерпимой. Кричала на весь дом так, что Нюся запиралась с Риткой наверху в своей комнатке и сидела там, пережидая бурю.
После бури дядя Сёма поднимался наверх, просить Нюсю успокоиться и не брать в голову. Все между ними давно уже было переговорено, и подозрения тети Лиды, само собой, почву под собой имели, и почву давно утвердившуюся: время от времени Нюся спускалась в подвал, якобы за картошкой или за квашеной капустой. Сёма прислушивался к ее затихающим внизу шагам и озабоченно говорил вслух, даже если бывал на кухне один: «пойду, подсоблю… не надо женщине таскать».
И в кромешной тьме подвала они припадали друг к другу — родные, глупой судьбой разлученные люди — и краткие эти запретные минуты были лучшим, чем награждала их жизнь.
Любовные свидания в подвале были совершенно безопасны: Лида подпола боялась, после того как узнала, что в войну там отсиживались мертвецы. Бесполезно ей было объяснять, что мертвецами все они стали потом, а в подвале сидели, еще когда были живыми. Лида была убеждена, что их мертвецкие души томятся там и по сей день, и ревнуют живых к этому дому, и злобятся, и ждут. Ну что ж… если они и томились до сих пор в подвале, то зрелище тайных и торопливых воссоединений Нюси и Сёмы, надо полагать, развлекало и радовало их молчаливые тени.