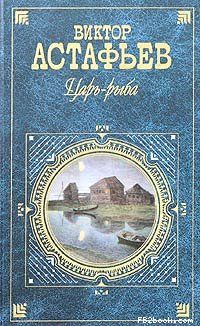— Рыбка-то? — шарился в голове чушанец. — Рыбка плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!..
— Ну, уж сразу и хрен! Хрена-то у нас и дома до хрена! Такие места! — втягивали в разговор чушанца приезжие, угощая сигаретками.
Ощупью подбираясь, тая в глубине насмешку, считая простофилями супротивника и хитрецами себя, чушанцы и отпускники в конце концов уяснили, что союзно им не живать, однако пригодиться друг дружке они могут. Приезжие, не жалея добра, накачали Дамку и Командора спиртом, и те смекнули, что у одного из молодцов жена или теща работает в больнице, может, кто из них и фершал, и всамделишный зубостав — золотом вся пасть забита, оскалится — хоть жмурься, — стало быть, стесняться нечего, успевай дармовщинкой пользоваться. Дамка и ночевать остался возле городских, делясь с ними «опытом», хвастаясь напропалую: «Гимзит, прямо гимзит стерлядь, когда ей ход! Да вот не пошла еще. Ждем. Сколько ждать? — Дамка вздымал рыльце в небо и кротко вздыхал: — Тайна природы! Одной токо небесной канцелярии известная!»
Приезжие терпеливо ждали, изготавливали концы, насаживали крючки, между делом азартно дергали удочками вертких ельцов, мужиковатых, доверчивых характером чебаков, форсисто-яркого, с замашками дикого бандита, здешнего окуня, вальяжную сорогу, которая и на крючке не желала шевелиться, ну и, конечно, ерша, всем видом и характером смахивающего на драчливых детдомовцев.
Пробовали наезжие рыбаки удить хариуса и ленка на Сурнихе и в Опарихе, однако успеха не имели. Комар выдворил их из глушины чернолесья. Отпускники бежали с речки так поспешно, что и удочки вместе с лесками там побросали. Удочки немедля отыскали местные рыбаки и смотали с них редкостную жилку, под названием «японская». Чушанцы уже изрядно пообобрали отпускников: чего выцыганили, чего потихоньку увели, так как наезжие держались вольно, разбросав имущество вокруг стана, по берегу, а глаз чушанца всегда и все, что худо лежит, немедленно уцеливал, натура не позволяла через бесхозяйственно лежащее добро переступать.
Время шло, двигалось. Браконьеришки подолгу висели ночами на концах, но утешительных известий не приносили — стерлядь, да еще ангарская, которая «в роте тает», не шла.
Принялись отпускники чебаков и другую черную рыбешку вялить на солнце. Полный рюкзак набили. С пивцом ее зимой да за дружеской беседой — ах, господи ты, боже мой! Вот еще стерлядочки дождутся, центнерок-другой возьмут — больше не надо, не хапуги, половину реализуют, половину по-братски меж собой разбросают, покоптят, ящичек железный, коптильный, так и быть, подарят этим дремучим людям.
Спиртик меж тем подошел к концу. Дамка и следом за ним Командор отвалили от палатки, повыгоревшей на солнце и уже не полыхающей жарком. Всякие иные чушанцы тоже утратили интерес к приезжим.
«Значит, стерлядь пошла и охломоны таиться начали!» — осенило отпускников, и они поскорее выметали три самолова. Чтобы не потерять их, наплава повесили, все же опыта нет, вслепую ловушки не найти. Зато самоловы у приезжих рыбаков — не самоловы — произведения искусства! Пробки крашены в разные цвета, чтоб видней было рыбе. Коленца навязаны, правда, как попало и разной длины, вместо якорниц каменюка. Да в этом ли суть? Стерляди, раз она такая игривая дитя, главное — пробка, яркая, пенопластовая, современная, не та, что у чушанских аборигенов, — у них пробки еще доисторической эпохи, когда бутылки закупоривались не железной нахлобучкой, а корой какого-то дерева, чуть ли не из Африки завозимого.
Глядя на такие роскошные ловушки, местные браконьеришки пожимали плечами, охотно соглашались: «Конешно, конешно! Где нам? Те-о-о-ом-ность…» Что правда, то правда: дремучестью веяло от этих людей, болотным духом на версту несло.
За сутки на три конца попал пестрый толстопузый налим, живучий, он долго не давался в руки. Четыре уды кто-то оторвал, еще четыре поломал.
— Осетг-звегюга! — тщательно обследовав самолов, корни обломанных уд и рваные коленца, дрожащим голосом объявил шеф. Артелью решено было переставить самоловы на самый стрежень — как и всем малоопытным рыбакам, им мнилось — чем дальше в реку, тем больше рыбы.
Поздней ночью отпускники закончили трудную работу по перестановке ловушек, подвернули к стану, там их Командор поджидает.
— На фарватер не лезьте! — предупредил он и отчужденно добавил: — Под пароход ночью попадете! По реке лишка не рыскайте. Закрестите наши концы — на себя пеняйте! — И выразительно поглядел под ноги, возле которых лежало у него ружье со стволами двенадцатого калибра. Сказал и рванул на дюральке в Чуш. Волна за лодкой бодрая двоилась, в носу лодки, под завязку полный, хрустел, шевелился мешок, по-ранешнему — куль.
Примолкли отпускники — уж больно бандитская харя у джигита. Но шеф на то он и шеф, чтоб силу и дух в коллективе поддерживать, многозначительно сощурив глаза, проговорил:
— Так-так-так!.. — и стукнул кулаком себя по колену: — Темнит загаза! Есть тут место. «Золотая Кагга» называется. Усечем — боится! Гужьем запугивает, хамло! О-о-ох и наглец! Пока спигт пил — дгуг тебе и бгат, не стало спигту — вгаг!
Лето в середину валило, теплынь, солнце! Прямо за палаткой, вдоль пышной оборки прибрежных кустов, пучки, как какие-нибудь экзотичные растения в джунглях Амазонки, взнялись высокущие, мохнатые, лопушистые! В широко цветущих зонтах дремали шмели и бабочки, на них охотились пичуги, суетились, выбирая из гущи соцветий мушек, тлю и всякий корм детям. Марьин корень дурманом исходил по склонам берегов, лабазник в пойме речки набух крупкой, цвел молочай, дрема, вех, бедренец и всякий разный дудник, гармошистые листья куколя, все время бывшие на виду, потухли в громко цветущем дурнотравье, и все ранние цветки унялись, рассорив лепестки по камням берега. Ароматы голову кружили. Теплынь! Нега! Э-эх, девочек не прихватили! Да какая с девочками рыбалка? Блуд один. Бог с ними. Вот наловят стерлядки, накоптят, навялят и такое в городе устроят!..
Будет, все будет. Надо верить и надеяться. А пока вечерком таскали окуней, ельцов и чебаков, жарили их по-таежному, на рожне, попросту сказать, на сучках, ели, где сырое, где обугленное — не очень-то вкусно, зато экзотично. Поели, запели: «Й-я лю-ублю-у-у тебя, жизнь!..» Сладостные предчувствия, накатывающие на человека во время цветения природы, сулили нечто необыкновенное, томили, словно в юности, накануне первого свидания. И только комары — наказание человеку от природы за его блудные дела и помышления, не давали полностью отдаться природе и насладиться ею до конца. Они даже в палатку набивались, проклятые. Не раз сшибали отпускники палатку со стояков, норовя кулаком попасть в эту махонькую скотинку, способную довести человека до нервных припадков.
Утром, под прикрытием легкого парка, дымящегося над рекой, отпускники выплыли на концы с предчувствием удачи и сняли трех стерлядей — засеклись какие-то дуры. Посчитав, что начался ход ангарской стерляди, они решили отметить первую удачу ухой, с дымком и коньячком, утаенным от алчных чушанских самоедов.
Когда я читаю либо слышу об ухе с дымком, меня непременно посещает одно и то же не очень радостное воспоминание, как одноглазый мой дед Павел лупил меня палкой за уху, пахнущую дымом, потому что дымом она может пахнуть только по причине разгильдяйства: из-за сырых и гнилых дров да еще когда котел в ненагоревший костер подвесишь иль зеворотый повар не закроет варево крышкой. И уголь бросают в котел вовсе не для вкуса — опять же по нужде — березовый уголек вбирает в себя из пересоленного варева соль, очень маленько, но вбирает.
Однако бог с ней, с кухней и с ее секретами. Уху во всех землях и краях варят со своей выдумкой, а где и с фокусами, хотя и мудрить-то вроде не над чем и незачем.
Отпускники не варили уху — священнодействовали. Ознобно дрожа от предчувствия редкостной еды, один из приезжих рыбаков потрошил стерлядь, другой навешивал круглый, наподобие военной каски, котел на таганок, в котором белела картошка и луковки да сиротливо плавал лавровый лист и черный перец горошком, непременно горошком — от молотого, по их разумению, не тот вкус. Двое рыбаков настраивали под яром коптилку, для начала, в порядке опыта, «зарядив» ее чебаками, чтобы после, когда хлынет стерлядь, не терять времени.
Сварив уху, отпускники бережно водрузили котел на плоский камень, расположились в братский круг, сдвинули чаши.
— За осетга! — возгласил шеф и хряпнул благородный напиток, не звездочками — арабскими закорючками, будто золотистыми осами, облепленный. Не успел шеф занюхать напиток и, благоговея, черпнуть ушицы ложкой, как увидел летящую по реке дюральку. — Вот ведь, охломоны, — шлепнул себя шеф по голой ляжке, пришибив попутно слепня, — вот козлы! Выпивку чуют, будто слепни кговь! — и, бросая битого слепня в огонь, велел спрятать бутылку.
Лодка не минула их, ткнулась точно против стана. К костру, разламывая хрустящие ноги, приблизился незнакомый чернявый мужик с неулыбчивым костлявым лицом и командирской кожаной сумкой на боку. «Харюзятник! Комаров идет кормить на речку», — по сумке заключили отпускники.