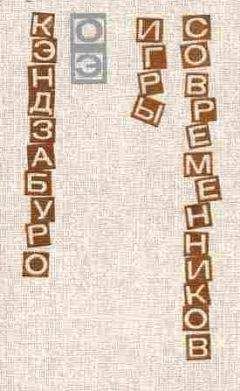Не успел начаться наш разговор, как юноша полностью переключился на мифы и предания деревни-государства-микрокосма. Беседовали мы о Мэйскэ Камэи не у меня дома и не в моем университетском кабинете, а по дороге к складскому помещению, которое молодой режиссер снимал для репетиций своей труппы. Наконец мы добрались до склада, вошли через приоткрытые двери и оказались в обществе двух актеров и одной актрисы – вот и вся труппа. Режиссеру и в голову не пришло представить меня. Может быть, у нового поколения так принято? Он застыл у дверей и посмотрел на актеров и актрису, стоявших у противоположной стены, – вот, мол, привел. Как бы отвечая на его взгляд, они взяли лежавшие у стены складные стулья – каждый по одному, – водрузили их себе на головы и уселись на корточки. Размалеванное, как у куклы, лицо актрисы удивительно не гармонировало с ее мощными кривыми ногами; она поддерживала стул руками, напрягая мышцы и раздвинув колени, отчего ее ноги казались еще более кривыми, и громко сопела, раздувая ноздри. Так же комично выглядели и мужчины: один – высоченный и худой, другой – маленький, толстенький. Сопя еще громче, чем актриса, и ни разу не моргнув, актеры выжидательно смотрели на нас с режиссером, так, словно это не они, а мы вели себя вызывающе странно.
Я наблюдал за происходящим, полагая, что актеры продолжают прерванную нашим приходом репетицию, но вдруг – для меня самого это было неожиданно – сердце в груди у меня сжалось, и я задрожал от вскипевшего во мне гнева. Негодование заставило меня в мгновение ока мысленно перенестись в прошлое, и я увидел себя на представлении о восстании, показанном у нас до войны, и снова ощутил то самое возмущение, которое охватило тогда всех жителей нашей долины. Негодование было столь велико, что мне впору было закричать от возмущения, как это сделали тридцать пять лет назад все жители долины и горного поселка...
– Пойдемте выпьем чайку. Я огорчен, что вы так рассердились, – успокаивал меня режиссер. – Я много раз наблюдал, как остро реагируют люди на выходки моих актеров, но редко кто по-настоящему сердится. Бывало, конечно, всякое...
Сидя в закусочной, расположенной в том же помещении, но выходившей на другую улицу, я спросил у режиссера так, будто мы с ним ровесники:
– Сколько вам лет? Вы выглядите очень молодо.
– Двадцать, но это само по себе не имеет никакого значения, – ответил он. – Важно другое. Как я уже говорил, я один из последних, кто родился в нашей деревне.
Мне оставалось лишь наблюдать за его наигранными манерами, в которых сочетались продуманная твердость и ребячество, когда он подносил огонь к сигарете, зажатой в слишком красных губах на типично актерском лице с большим, выдающимся вперед носом.
– Однажды я обратил внимание на то, что в округе нет ни одного мальчишки моложе меня и, значит, никто больше не рождается. Мне даже стало как-то не по себе. Я принялся рассказывать разные небылицы о каких-то особых обстоятельствах, с которыми связано мое рождение, и среди своих товарищей – все они были старше – прослыл отпетым вруном. Например, я утверждал, что по случаю моего рождения в нашем доме собрались все старики долины и горного поселка – только что родившись, я, мол, видел это собственными глазами. Потребность рассказывать подобные небылицы была, как мне сейчас представляется, вполне естественной, и если вспомнить, что жители нашей долины и горного поселка считали себя одним родом, то именно я, и никто другой, стал последним отпрыском этого одряхлевшего рода. В день, когда прекратился долгий ливень, Разрушитель произнес, обращаясь к созидателям, вместе с которыми он поднялся от моря вверх по реке: ну что ж, начнем строительство нового мира. Моя миссия иная, прямо противоположная – своим рождением я возвестил: ну что ж, нами закончится наш новый мир. Даже когда я был еще совсем маленьким ребенком, стоило мне подумать об этом, и на душе становилось мерзко. Смерть страшна всем, но еще страшнее она для меня – последнего человека, родившегося в нашем крае, – одна мысль о ней заставляет сжиматься сердце. Я думаю, именно это побудило меня связать жизнь с театром. Если я родился последним и после меня уже никто не появится на свет, то прежде, чем наш край перестанет существовать, нужно, решил я, хотя бы на сцене бережно воссоздать все, что там происходило...
– Перед войной один человек уже брался за пьесу о восстании, которое поднял Мэйскэ Камэи. Пьесу написал и поставил учитель – он был не из наших мест, актерами были школьники старших классов. Спектакль вызвал негодование всех жителей долины и горного поселка. Я был еще совсем маленьким, но и для меня она прозвучала как гром. Всеобщее возмущение было так велико, что я до сих пор помню атмосферу негодования, охватившего сидевших вокруг меня взрослых. Мэйскэ Камэи, как человек легковесный, нередко подвергался насмешкам, в нашем крае об этом знали даже дети, но в пьесе он предстал одной из самых выдающихся личностей со времен созидания, уступая разве что Разрушителю. За ним признавался огромный вклад в общее дело, который независимо от того, возглавлял ли он восстание, давал основание претендовать на роль героя, тем более что Мэйскэ оказался главной жертвой гонений. Именно это было основной причиной, вызвавшей возмущение зрителей. Бежав после разгрома восстания в Осаку, Мэйскэ по дороге туда укрылся в монастыре на горе Авадзи, в провинции Сануки – не знаю, связано ли это название с названием деревни Авадзи, которое пишется, правда, другими иероглифами. Там он стал исповедовать аскетизм. Потом вернулся во владения князя и забрал из дома все деньги. Это были деньги, вырученные за землю, которую по его указанию заложили родные. Мэйскэ был лишен привязанности к земле, в период феодализма свойственной всем крестьянам, для которых земля была святой. Забрав деньги, он снова покинул княжество и, добравшись до Киото, организовал движение против нынешних его властей. Деньги он передал регенту, покровительствовавшему монастырю, где его приучали к аскетической жизни, – поступок нелепый сам по себе, хотя и он имел под собой вполне конкретные основания. Мэйскэ надеялся получить у императора документ, удостоверяющий, что наш край возник из поместья, дарованного императором еще в период позднего Хэйана[24], и, таким образом, с давних пор непосредственно подчинен императору, а власть княжества на нашу деревню не распространяется. Не знаю, был ли пожалован такой документ, но только впоследствии Мэйскэ развивал идею, что, поскольку Авадзи непосредственно подчинена императору и все ее жители – вассалы самого императора, власти княжества ничего ему, Мэйскэ, сделать не могут, более того, даже обязаны взять его к себе на службу. Вооруженный этой идеей и мечами, он вернулся во владения князя, но сразу же был арестован. Его действия, продемонстрировавшие всем, что наша долина и горный поселок отличаются от остального мира, и были причиной того, что Мэйскэ Камэи многие годы подвергался осуждению. Хотя он и пытался закамуфлировать свое предательство вполне правдоподобным объяснением, будто мы непосредственно подчиняемся императору.
– В результате получилось, что Мэйскэ Камэи отдал под власть императора наш край, который фактически был независимым. Может быть, за это его и ругают? Выходит, он совершил предательство по отношению к нашей истории.
– Вот видите, а разве вы забыли о существующем уж многие-многие годы запрете раскрывать перед внешним миром мифы и предания нашего края? Может быть, ваше нынешнее решение инсценировать их связано с тем, что гибель нашего края, вы считаете, освобождает вас от этого запрета?
– Почему же, я прекрасно знаю о запрете. Старики против, и поэтому вряд ли мне удастся открыто говорить со сцены о мифах и преданиях нашего края, но я просто мечтаю представить их в виде пьесы и вывести в ней Мэйскэ Камэи. Вообразите, на сцене – берег реки, полная тьма, и актеры с лицами, выкрашенными черной краской, произносят свои монологи так тихо, что даже стоящие рядом почти не слышат их. Вот как я мыслю себе эту постановку. У меня была идея реабилитировать Мэйскэ Камэи. Даже если он действительно хотел спрятаться за спину императора, он смотрел на него релятивистски, как на объект, который можно использовать в своих целях, а наш край он возводил в абсолют. Я сформулировал свои мысли уже после того, как приехал в Токио, но еще в детстве мне хотелось сделать что-нибудь для Мэйскэ. Я никогда не участвовал в играх ребят – все были старше меня, – когда они ловили и мучили речных черепах, называя их при этом Мэйскэ. Ссорясь с кем-нибудь из своих товарищей, никогда не обзывал его «тупой черепахой» только потому, что фамилия «Камэи» пишется иероглифом «черепаха».
– Почему вы с детства так привязаны к Мэйскэ Камэи?
– Потому что я принадлежу к его роду. Я потомок человека, имевшего самую дурную репутацию за все время существования нашего края.