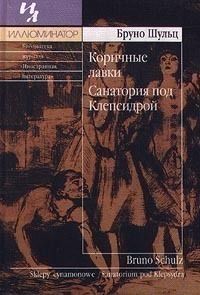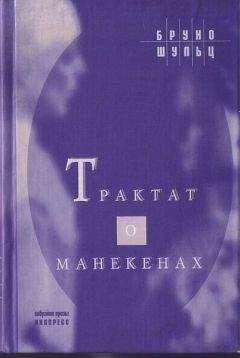Я чувствовал себя совершенно спокойным и решительным. Речь шла о Бианке, а что бы я ни сделал ради нее! Рудольфу я решил ничего не говорить. Чем ближе я его узнавал, тем больше убеждался, что он птица невысокого полета и не способен подняться над обыденным. С меня уже было довольно лица, мертвевшего от недоумения и бледневшего от зависти, какими встречал он каждое новое мое откровение.
В задумчивости я быстро прошел недальнюю дорогу. Когда большие железные ворота, сотрясаясь от сдерживаемой вибрации, захлопнулись за мной, я тотчас вступил в иной климат, в иные дуновения воздуха, в чужую и прохладную окрестность большого года. Черные ветки дерев вветвлялись в особое и отвлеченное время, их безлистые пока верхушки тыкались черными розгами в высоко плывущее белое небо иной какой-то чужеродной зоны и отовсюду замыкались аллеями, отрезанные и позабытые, точно непроточный залив. Голоса птиц, затерянные и примолкшие в далеких пространствах обширного этого неба, на свой манер подкраивали тишину, трудясь над ней, тяжкой, блеклой, задумчиво отражаемой навыворот в тихом прудочке, и обеспамятевший мир летел в отражение, вслепую тяготея в своем натиске к великой этой и универсальной тусклой задумчивости, к этим перевернутым, без конца ускользающим штопорам деревьев, к великой расколыхавшейся бледности без конца и края.
С высоко поднятой головой, совершенно холодный и спокойный, я велел доложить о себе. Меня ввели в полутемный холл. Там стоял сумрак, вибрировавший тихой роскошью. В отворенное высокое окно, точно в щель флейты, из сада мягкими волнами, словно в комнату, где лежит неизлечимо больной, плыл воздух, бальзамический и сдержанный. От этих тихих вплываний, незримо проникающих сквозь мягко респирирующие фильтры штор, слегка вздутых воздухом сада, оживали, пробуждаясь со вздохом, предметы, поблескивающее предвосхищение пробегало тревожными пассажами по рядам венецианского стекла в глубоком поставце, листья обоев шелестели, всполошенные и серебристые.
Затем обои гасли, уходили в тень, и напряженная их задумчивость, долгие годы затиснутая в полные темных умозаключений заросли, высвобождалась, вмиг загрезив слепым бредом ароматов, точь-в-точь старые гербарии, по высохшим прериям которых проносятся стайки колибри и стада бизонов, степные пожары и погони, развевающиеся скальпами у седла.
Поразительно, насколько старые эти интерьеры неспособны найти покой взбудораженному своему темному прошлому, насколько в тишине их все еще пытаются разыграться и на этот раз предрешенные и проигранные события, складываются в бессчетных вариантах те же самые ситуации, лицуемые на обе стороны бесплодной диалектикой обоев. Так распадается эта тишина, до основания порченая и деморализованная в тысячекратных обдумываниях, в одиноких размышлениях, шало пробегая по обоям бессветными молниями. Зачем скрывать? Разве тут не были вынуждены умерять из ночи в ночь чрезмерные возбуждения, нахлынувшие пароксизмы горячки, снимая их вливаниями секретных лекарств, с помощью которых переносишься в просторные целительные и покойные ландшафты, полные — среди расступившихся обоев — далеких озер и зеркальностей?
Я услыхал какой-то шорох. С лестницы, предваряемый лакеем, спускался он, приземистый и плотный, скупой в движениях, слепой рефлексом больших роговых очков. Впервые я оказался с ним лицом к лицу. Он был непроницаем, но не без удовлетворения подметил я уже после первых своих слов врезавшиеся в его черты две морщины обиды и горечи. Меж тем как за слепым блеском своих очков он драпировал лицо в маску великолепной недоступности — я увидел в складках маски украдкой пробегающую бледную панику. Постепенно он проникался интересом, и по более внимательному выражению сделалось заметно, что он только теперь начинает понимать мне цену. Он пригласил меня в кабинет, расположенный рядом. Когда мы входили, какая-то женская фигура в белом платье, вспугнутая, как если бы подслушивала, метнулась от дверей и удалилась в глубь квартиры. Была ли это гувернантка Бианки? Когда я переступил порог кабинета, мне казалось, что я вхожу в джунгли. Мутно-зеленый комнатный полумрак был водянисто исполосован тенями опущенных на окнах реечных жалюзи. Стены были увешаны ботаническими таблицами, в больших клетках порхали маленькие цветные птички. Желая, вероятно, выиграть время, он стал показывать мне экземпляры первобытного оружия: дротики, бумеранги и томагавки, развешанные по стенам. Мое обостренное обоняние уловило запах кураре. Меж тем как он манипулировал некоей варварской алебардой, я посоветовал ему держаться в высшей степени осмотрительно и контролировать движения, сопроводив свое предостережение внезапно выхваченным пистолетом. Несколько сбитый с толку, он криво усмехнулся и положил оружие на место. Мы сели за могучий стол черного дерева. Отговариваясь воздержанием и поблагодарив, я отказался от сигары, мне предложенной. Такая осмотрительность снискала мне его одобрение. С сигарою в уголке обвисшего рта он приглядывался ко мне с опасной и не вызывающей доверия благожелательностью. Затем, как бы в рассеянности, небрежно листая чековую книжку, он вдруг предложил мне компромисс, назвав цифру со многими нулями, меж тем как зрачки его ушли в уголки глаз. Моя ироническая улыбка заставила его оставить эту тему. Со вздохом он разложил торговые книги. Принялся излагать состояние дел. Имя Бианки ни разу не было произнесено, хотя в каждом нашем слове она присутствовала. Я невозмутимо взирал, с губ моих не сходила ироническая усмешка. Наконец он бессильно оперся на подлокотник. — Вы несговорчивы, — сказал он, словно бы сам себе, — что вам, наконец, угодно? — Я снова заговорил. Я говорил глухим голосом, сдерживая внутренний огонь. На щеках моих выступил румянец. Несколько раз я с дрожью в голосе произнес имя Максимиллиана, напирая на это слово и всякий раз видя, как лицо противника моего еще больше бледнеет. Наконец, тяжело дыша, я договорил. Он сидел раздавленный. Он уже не владел своим лицом, ставшим вдруг старым и усталым. — Решение ваше покажет мне, — закончил я, — созрели ли вы для новой ситуации и готовы ли подтвердить это делом. Мне нужны факты и еще раз факты…
Дрожащей рукой он потянулся было к звонку. Я жестом остановил его и, держа палец на спусковом крючке пистолета, стал пятиться к выходу. У дверей слуга подал мне шляпу. Я оказался на террасе, залитой солнцем, но глаза мои были еще полны кружащегося мрака и вибраций. Не оборачиваясь, я спускался по лестнице, исполненный триумфа и уверенный, что уж теперь-то ни сквозь одну из затворенных ставен особняка не выдвинутся коварно наведенные на меня стволы двустволки.
XXXIX
Важные дела, величайшей важности государственные дела часто теперь вынуждают меня к доверительным переговорам с Бианкой. Я готовлюсь к ним скрупулезно, до глубокой ночи просиживая за письменным столом над деликатнейшими династическими проблемами. Течет время, тихо стоит в отворенном окне над настольной лампой ночь. Делаясь все поздней и торжественней, она починает все более поздние и темные слои, проходит более глубокие степени посвящения и, бессильная, обезоруживает себя в окне непередаваемыми вздохами. Долгими медленными глотками поглощает темная комната в глубины свои чащобу парка, обменивает прохладными переливаниями свою суть с великой ночью, а та подступает половодьем тьмы, посевом оперенных семян, темной пыльцы и беззвучных плюшевых бабочек, облетающих стены в тихой суматохе. Серебристо нахохленные дебри обоев наеживаются во тьме страхом, просеивая сквозь высыпавшую листву содрогания, неотчетливые и летаргические, прохладные экстазы и взлеты, трансцендентальные опаски и неистовства, какими далеко заполночь полна майская ночь за своими пределами. Прозрачная и стеклянная ее фауна, легкий планктон комаров обседают меня, склоненного над бумагами, все выше и выше заращивая пространство вспененной тончайшей белой вышивкой, какою далеко заполночь вышиваема ночь. Садятся на бумаги кузнечики и москиты, сделанные как бы из прозрачной плоти ночных мыслей, стеклянные фарфареллы, изящные монограммы, арабески, которые измыслила ночь, всё более крупные и фантастические, величиной с нетопырей, с вампиров, созданных из одной каллиграфии и воздуха. Занавеска мельтешит этим подвижным кружевом, тихим нашествием белой мнимой фауны.
В такую бескрайнюю запредельную ночь пространство теряет смысл. Обтанцованный светлой толчеей комаров, с ворохом готовых наконец бумаг, я делаю два шага в неопределенном направлении, в тупиковый заулок ночи, каковой должен завершиться дверью, да-да, белой дверью Бианки. Нажимаю дверную ручку и, словно бы из комнаты в комнату, вхожу к ней, причем мою черную шляпу карбонария почему-то хочет сорвать ветер далеких странствий. Мой весьма беспорядочный галстук, когда я переступаю порог, шелестит на сквозняке, я прижимаю к груди портфель, набитый секретнейшими документами. Словно из сеней ночи, вошел в самое ночь! Как глубоко дышится озоном! Здесь она, заповедная пуща, здесь она, сердцевина ночи, полной жасмина. Тут лишь берет начало ее подлинная история. Большая лампа с розовым абажуром горит в изголовье постели. В ее розовом полумраке у широко распахнутого и транспирирующего окна, среди огромных подушек возлежит Бианка, несомая половодьем постели, точно приливом ночи. Бианка читает, опершись на бледную руку. На мой глубокий поклон она отвечает коротким взглядом поверх книжки. Вблизи красота ее словно бы сдерживает себя, как подкрученная лампа. С кощунственной радостью я замечаю, что носик Бианки вовсе не столь благородно скроен, а кожа далека от идеального совершенства. Я констатирую это с неким облегчением, хотя понимаю, что подобное умаление собственного великолепия имеет место только из сострадания и только затем, чтобы не перехватило дыхание и не отнялся язык. Красота потом быстро регенерируется медиумом отдаления и будет мучить, невыносимая и неимоверная.