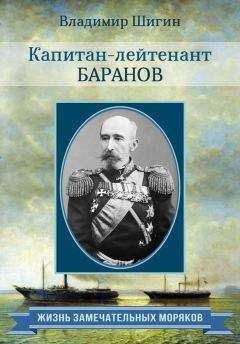– В жизни все к лучшему, – сказал ей, утешая, Карп. – Где потеряешь, там и найдешь… Я вам хотел сказать, что вы нашли нас.
– Да, я нашла, – краснея, согласилась Майя и быстро посмотрела на Стремухина.
Карп это видел; ободряя, подмигнул. Рыжий и рыженькая хмыкнули смущенно. Пилот, не зная отчего, расстроился. Карина ничего не видела перед собой и словно удалялась ото всех, с каждым мгновением все глубже погружаясь в топь своих мыслей. Стремухин эти мысли знал. Он знал, как эта топь, затягивая, давит, и потому он не хотел сейчас Карину видеть. Встал и сказал нетерпеливо:
– Пойду, немного разомнусь.
– Можно, я с вами? – спросила Майя. – Или я снова помешаю?
– Нет, Маша, вы мне не мешаете, – ответил ей Стремухин и, не оглядываясь на нее, шагнул из круга света в темноту.
…Он шел, ступая по корням, вслепую по тропе и слышал за своим плечом дыхание Майи. Глухо споткнувшись, она охнула, нашла на ощупь его руку. Теперь они шли рядом, куда, не зная, и – куда ведет тропа. Он шел, перебирая пальцами, как четки, ее пальцы. Она и не мешала их перебирать. Тропа сужалась, скоро стало тесно среди невидимых иголок и ветвей, цепляющихся за локти, плечи, царапающих лоб и щеки.
– Берегите глаза! – отрывисто сказал Стремухин, и Майя зажмурилась. Прибавив шагу, он выставил перед собою, как бушприт, вперед ладонью руку. Ладонь царапало, давило и кололо, пока она не провалилась в пустоту: тропа опять расширилась; стволы поскрипывали в стороне; попыхивали впереди угли мангала; помаргивали искры сигарет, слонялись по полянке тени людей, сливаясь то и дело с тенями сосен, с огромными, как кляксы, пятнами кустов. Стремухин с Майей перешли полянку быстрым, извиняющимся шагом; кто-то им в спину запоздало ахнул от испуга, кто-то коротко выругался…
Опять тропа вела неведомо куда, то расширяясь, то тесня и стискивая острыми, колючими и мокрыми ветвями. Весь лес, казалось, был не пуст: ночная Бухта, словно мурашами – чернозем, кишела отдыхающими. Невидимые в двух шагах, они давали, что ни шаг, знать о себе внезапной вспышкой спички перед чьим-то прозрачным, будто матовый плафон, лицом, сдавленным смехом, вскриком, хохотком и бормотаньем. То тут, то там сквозь их немолчный шорох проступали и гнали поскорей вперед глухие голоса.
…
– А ну вас всех!
– Куда? Да погоди ты!… Ты нам не мешаешь.
…
– … Кто он? Лучше, чем я?… Тогда зачем ты здесь?… Молчишь? Вот и молчи! Молчи, кому сказал!
…
– …Тут этих черных налетело – как муравьев; он и позвать, и пискнуть не успел; забили до смерти.
– А если снова налетят? Что мы тогда?.
– Не налетят, не бойся, ночью не посмеют; к тому же их пасут – и плотно. Но и не надо бдительность терять.
– А я ее и не теряю.
– А вот и не теряй…
…
– Вы делаете больно…
– А мы разве не на ты?
– Ну, хорошо… Ты делаешь мне больно…
…
– Меня достал весь этот ваш шашлык, весь ваш горелый жир! Я б лучше рыбки съел… Съел бы простого карася.
– Сожрешь и мясо.
– Да?
– Да.
– А кто мне будет в зубе ковырять? Ты будешь ковырять?
…
– Ну не было у нас с ним ничего! Если бы было, я б тебе первая сказала. Ты веришь?
– Нет.
– Да как ты можешь? Я твоя сестра.
– Потому и не верю.
– Ну и не верь, но только хватит ныть.
…
– Товарищи, давайте споем.
– Давайте. Начинай.
– Почему я?
– Но ты же предложила спеть. Или ты нам не предложила?
– Я предложила. Но почему у нас всегда, как начинать, так я?
…
– Милый, не так…
– А как?
– Тантрически…
– Чего?!
– Помягче, вот чего…
…
– Он что, уже уснул? Сань, разбуди, пни его в рожу.
…
– Бараньи яйца надо час держать в холодной и подсоленной воде…
– Неправильно.
– А ты откуда знаешь?
– Не “яйца” надо говорить, а “лампочки”. У нас на рынке все так говорят для вежливости.
…
– Я в Лувр попал только на пятый раз. Все первые разы, как прилечу – сразу гулять, смотреть, мечтать о жизни и в Лувр никак не успеваю.
…
“…Ты…, ни… не…, и ты, бля, не…, не… и не…, не то…, ты,…, понял?…
…
– Рубальская, я говорю, гениальная!
– Что, гениальнее Есенина?
– Не гениальнее Есенина, но гениальная.
…
– Послушай, ты, дурак, там лужа! Не смей ронять меня в лужу!
…
– Она еврейка…
– Так некрасиво говорить.
– А как мне нужно говорить?
– Скажи “евреечка”.
…
– Давайте просто спать. Еще по стопочке, без тостов, и все, спим…
…
– Врешь, врешь! П…, короче.
…
– Вон та звезда – как называется?
– Трудно сказать. Отсюда плохо видно.
…
Мало-помалу лес смолк. Стремухин с Майей очутились наконец в той его части, где уже не было людей. Над грядой крон горел фонарь, вокруг которого пунктирами и кружевами кружила мошкара. Он освещал пустой манеж, невысоко огороженный жердями и заслоненный сплошь по кругу козырьком густых сосновых лап. Песок манежа был весь взбит копытами и взрыхлен недавним ливнем. С крон все еще падали в песок его последние, застрявшие в иголках капли. Бревна конюшни влажно лоснились в свете фонаря. Был слышен теплый лошадиный храп. Стремухин отпустил на волю пальцы Майи и, отодвинув ветку сосны, грузно нависшую над изгородью, прислонился боком к жерди. И Майя прислонилась к жерди, но снова взяла его за руку. “Что в нем такого, что мне ах? – думала она, не глядя на него. – У него глупые глаза. Где умные глаза – там дурь и гадость… А у него глупые глаза, но он умен…” Она, дрожа, поежилась.
– Вам холодно? – спросил ее Стремухин. – Вернемся, если вы озябли.
Нет, не умен, подумала она. Ответила:
– Здесь слишком яркий свет; глаза болят; отвыкли. Сейчас я их закрою, и – пройдет.
Она закрыла глаза и не спешила их открывать. Немного погодя жердь изгороди скрипнула и дрогнула под ее боком, как живая. Потом в лицо пахнуло кислым дымом углей, и Майя ощутила на губах губы Стремухина. Он лишь коснулся ее губ и тотчас отстранился, не решаясь продолжать. Так дело не пойдет, подумала она и, глаз по-прежнему не открывая, развернулась и подалась к нему спиной, всем позвоночником услышав вдруг, как бьется его сердце. Он все еще робел, еще не веря; вновь попытался отстраниться, но она, вдруг отозвавшись, тоже плавно прянула назад, – стук его сердца в позвонках, сбившись на миг, звучал уже куда быстрее и настойчивее… Потом стук, не стихая, вздумал удалиться, заглушаемый разливом жара по спине и шумом крови в голове… Рука Стремухина неловко обняла и, спрашивая, погладила ее по животу, коснулась и груди. Все опасаясь упустить его, Майя тревожно завела свою ладонь себе за спину, протиснула ее меж двух их тел вниз и, поощряя, медленно сдавила его бугор внизу, пульсирующий в лад стуку его сердца, но и не поспевающий за ним. Ей было нервно, как и прежде, и только лишь поняв, что он все понял, лишь только ощутив, как он пытается найти застежку ее шорт, она позволила себе забыть тревогу, дать волю иным нервам, из тех, что не гнетут, но радуют.
…Над соснами, под вздутой лампой фонаря, среди мошки€ и пыльных бабочек, в волнах пылающего света плавал комар. Жар волн грозил его спалить, но свет и жар вливали в него силы. Комар обязан был успеть покинуть море света до того, как его крылья примутся сворачиваться от избытка жара, но и не прежде, чем его тельце наберется силы света и тепла… Когда же волны света выплеснут его, он упадет в холодную, густую мглу сосновых лап, затем спланирует к конюшне, под скат кровли, из-под которой поднимается и расплывается над соснами плотный и сытный запах лошади… Комар купался в световых волнах, вбирая терпеливо лошадиный запах, и ждал, когда его от голода обмякший хобот станет достаточно упругим для того, чтобы уверенно войти сквозь шерсть и кожу в лошадь, найти под кожею пульсирующую жилу, пробить ее и выкачать из жилы столько крови, сколько достанет, чтобы наполнить себя кровью до краев, до одури, до смерти.
Шурша своей мохнатой пылью, ночные бабочки бились в лампу и лопались на лампе с мокрым треском. В ответ гудению лампы недомерки-мокрецы полнили волны света своим гудением. Комар один не тратил сил, молчал и даже крыльями не пошевеливал, отдав всего себя питательной воле волн… И вдруг он крикнул, поначалу недоверчиво и коротко, но так, что хор гудящих мокрецов умолк. Все волоски на крепкой и пустой груди восстали, пустой живот затрясся и затрепетал, как стяг, и зазвенели крылья на свету, и хобот комара, весь изогнувшись, заныл, как тетива. Поняв в недолгой тишине: не показалось, – комар вновь закричал, и тонкий крик его, пронзая свет и тьму вокруг, уже не умолкал.
Сквозь тянущийся из мглы добротный лошадиный дух вверх прорывался всплесками иной и небывалый запах. Память всех прежних поколений комаров провыла в комаре: не медли!; этот дивный дух, не сбывшийся в короткой жизни слишком многих комаров, редок, как дар, но и недолог: еще всплеск снизу, и еще, еще, – помедлишь, и не будет больше всплесков!… Не прерывая крика, комар упал в холодную сырую мглу – навстречу самой редкой и желанной из всех своих возможностей погибнуть.