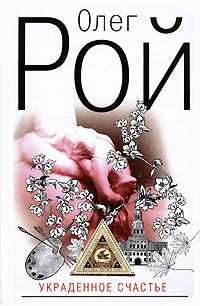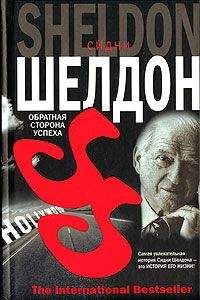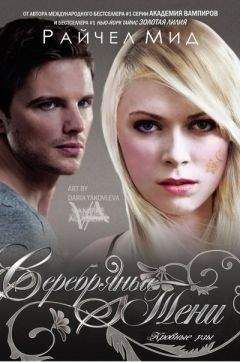Все готово к поездке, но на душе тревожно, мучает какое-то смутное предчувствие опасности. И не исключено, что источником ее может стать именно Анрэ. Но я не позволю ему отнять мое столь тяжело доставшееся счастье! Тем более сейчас. Без боя я не сдамся. И если для защиты моей семьи мне понадобится перейти Альпы, все эти Лепонтинские и Рейтинские хребты, клянусь, я их перейду, как Суворов».
…Отца своего Владимир не помнил, тот умер, едва сыну исполнился год. Судьба Павла Яковлевского была одновременно и трагической и типичной — в семнадцать лет его, еще не окончившего школу, арестовали по какому-то абсурдному обвинению и отправили в лагерь. Прошло всего лишь несколько месяцев после снятия блокады Ленинграда, жизнь только-только начала налаживаться. И тут на квартиру нагрянули с обыском и увели профессорского сына. Он отсидел десять лет от звонка до звонка, а когда вышел, ухитрился не только доучиться в вечерней школе, но даже поступить в Ленинградский университет на физико-математический факультет. Однако подорванное суровыми лагерными условиями здоровье не позволило получить диплом. После третьего курса Павлу дали вторую группу инвалидности, он вынужден был оставить университет и устроиться на относительно несложную работу телефониста.
На вечеринке у друзей он познакомился с Наташей Горчаковой и не побоялся сделать ей, вчерашней «белоэмигрантке», предложение руки и сердца. Сыграли тихую свадьбу, вскоре родился сын Владимир, а через тринадцать месяцев Павла Яковлевского увезли в больницу с сердечным приступом. Домой он уже не вернулся.
Соседи говорили, что после его смерти мама разом постарела, превратилась из красивой энергичной девушки в усталую седую женщину с потухшим взором. Именно такой и знал ее Владимир. Наталье Евгеньевне пришлось нелегко, ведь она осталась совершенно одна с крошечным сыном на руках. Устроиться переводчиком мама так и не сумела, слишком уж подозрительной выглядела ее биография. Прошло много лет, прежде чем стало ясно, что Яковлевская, урожденная Алье, не шпионка и вернулась в СССР не затем, чтобы передавать на Запад секреты родины. Однако клеймо «из бывших» сохранилось на ней на всю жизнь. Телефонные разговоры их семьи прослушивались, письма приходили помятыми, вскрытые конверты были заклеены косо, небрежно.
Долгое время Наталья работала нянечкой в детском саду-«пятидневке», получала гроши, даже несмотря на то, что трудилась на полторы ставки и чуть ли не круглые сутки.
Потом ей все-таки улыбнулось счастье — взяли в дом к одному ответственному работнику из горкома партии присматривать за ребенком и учить его иностранным языкам. Затем предложили похожую работу в семье обласканного властью поэта, далее — у популярного актера. Конечно, она сильно уставала, и Володя очень жалел ее.
— Ты бы прилегла, мама, отдохнула, — говорил он, когда она появлялась вечером домой с набитой сумкой — после работы Наталья, как все женщины того времени, спешила в магазин и отстаивала там очереди, запасаясь впрок тем, что «выбрасывали» в тот день.
— Ничего, сынок, — через силу улыбалась мама. — Это нормально, когда устаешь от работы. Хуже, когда от безделья… А как твои дела? Я смотрю, ты уже дочитал Марка Твена? Ну и как, трудности с переводом были?
Несмотря на занятость и усталость, она находила время заниматься с ним, водить в музеи и театры, обсуждать книги, учить английскому, немецкому, французскому языку. Или хотя бы просто погулять по городу, ведь Ленинград весь как один большой музей, особенно в центре. Почти каждый выходной они садились на трамвай и ехали в Летний сад, на Невский, на Дворцовую площадь, на Васильевский остров. Гуляли по набережным, подолгу стояли, глядя на Аничков мост, Адмиралтейскую иглу, Петропавловскую крепость, Лебяжью канавку, Исаакиевский собор, запущенный, но все еще прекрасный Спас-на-Крови. В хорошую погоду выбирались в пригороды: Петергоф, Пушкин, Ломоносов… Перед каждой прогулкой решали, на каком языке будут сегодня говорить, и строго придерживались этого правила. А прохожие с недоумением оглядывались на очень скромно одетых, явно «советского» вида женщину и мальчика, ведущих оживленную беседу по-немецки или по-французски. Но Володя и Наталья Евгеньевна не обращали на них никакого внимания. Им всегда было интересно друг с другом, они были очень дружны, мать и сын.
Быт их, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Нет, конечно, они были сыты и чисто одеты в аккуратно заштопанные вещи — Володя, как правило, донашивал одежду и обувь Игоря, соседа по квартире, который был старше на два года. Необходимость купить что-то новое всегда оборачивалась для семьи чуть ли не катастрофой, а питались преимущественно картошкой, капустой и макаронами. Шестикопеечные котлеты из кулинарии могли позволить себе не каждый день. Сыр, даже плавленые сырки «Волна», или колбасу — вареную «Докторскую» по два двадцать или полукопченую «Краковскую» — еще реже. Что уж говорить о деликатесах вроде лимонада или апельсинов? Когда жена партийного босса изредка угощала гувернантку «Белочкой» или «Мишкой на Севере» (Наталья, конечно, никогда сама не ела тех конфет, приносила домой), это становилось настоящим праздником для мальчишки.
Жили они в Дункином переулке, мягко произнося его название как «Дунькин переулок», на четвертом этаже, в одиннадцатиметровой комнате. Окно, где между двойными рамами, липкими от замазки, всегда хранились продукты, выходило во двор. И по сей день воспоминания о дворе были одной из самых ярких страниц в памяти Владимира, он искренне благодарил судьбу за то, что ему довелось жить именно там, а не в каком-нибудь доме с типичным ленинградским двором-колодцем — каменным мешком, куда даже летом редко заглядывает солнце. У них-то было достаточно и света, и зелени, и места.
Жизнь во дворе начиналась рано. Едва брезжил рассвет, дворник Степаныч разматывал стометровый брезентовый шланг, подсоединял его к домовому крану и орошал все вокруг. Капли искусственного дождя падали на асфальт и долго висели на травинках газона, на ярких бутонах георгинов, заботливо высаженных жильцами у входа в парадное. Потом Степаныч убирал шланг и снимал вентиль с крана, чтобы «ребятня не лила зазря воду». Тщетная предосторожность! У каждого мальчишки в битком набитом подобными сокровищами кармане обязательно имелся собственный вентиль, при помощи которого наполнялись «брызгалки» — бутылочки, выпрошенные у мастеров из соседней парикмахерской, — и устраивалась веселая забава.
Целый день из окон звучало радио, доносились вкусные запахи готовящихся завтраков, обедов и ужинов. То и дело хлопали двери парадных, жильцы спешили на работу и в школу, потом возвращались, пенсионеры выходили посидеть на лавочках, поиграть в шахматы, постучать костяшками домино. За бомбоубежищем, около голубятни, собирались городошники и метким броском «распечатывали» очередной «конверт». Автолюбители целыми днями возились со своими «Москвичами», «Запорожцами», старенькими, еще «с оленем», «Волгами». Хозяйки, поднимая клубы пыли, выбивали ковры, развешанные на металлических каркасах. До темноты не смолкал гомон детских голосов. Малышня возилась в песочнице, раскачивалась на качелях, оглашавших всю округу равномерным скрипом, девчонки прыгали в «классики» и в «резиночку»; мальчишки играли в войну, ножички, казаки-разбойники или, если Андрюха Карасев из пятьдесят второй квартиры приносил свой «настоящий» мяч, в футбол и вышибалы.
К вечеру двор пустел, крики: «Ира! Мишка! Сейчас же домой, я кому сказала!» — постепенно стихали, взрослые жильцы расходились по квартирам, к ужину и телевизорам. Наступало время молодежи. В сумерках парни и девушки сидели на лавочках или собирались компанией в деревянной беседке. Бренчала гитара, хрипел катушечный магнитофон на батарейках — гордость Сережки Бугрова, первого во дворе красавца, звучал девичий смех, светились огоньки сигарет.
Маленький Вовка Яковлевский тоже целыми днями пропадал во дворе. Но чем старше он становился, тем больше важных дел у него появлялось. Он рано начал помогать маме по дому, стирал, убирал комнату, мыл, согласно графику дежурств, коридор и места общего пользования, ходил за покупками, отстаивая долгие скучные очереди. Очереди были неотъемлемой частью жизни, прийти и сразу что-то купить — неважно что, хоть билет в кино, хоть эскимо за одиннадцать копеек, хоть булку хлеба, хоть школьную резинку — было невозможно, за всем приходилось отстоять очередь.
Учился Володя легко, был одним из лучших учеников в классе. Только по химии у него постоянно выходила тройка, ну не давалась ему эта наука, все остальное — пятерки, изредка четверки. К радости мамы, он много занимался языками, читал книги в оригинале, иностранные газеты и журналы, которые иногда можно было достать. Но причиной такого усердия была не только его любовь к знаниям, точнее, не столько любовь к знаниям, сколько надежда на успешное будущее. Он хорошо понимал, что мама не в состоянии лучше обеспечивать их семью, и никогда, даже будучи совсем маленьким, не жаловался на лишения и ничего не просил. Но в то же время нехватка самого необходимого ощущалась столь остро, что не замечать ее было невозможно. Влажными ветреными зимами Володя постоянно мерз в одежде с чужого плеча и старой обуви — а многие его одноклассники щеголяли в модных импортных куртках, дорогих шапках, ярких шарфах и даже в дубленках. Не то чтобы Вовка им завидовал, нет. Просто ему тоже хотелось, отчаянно хотелось иметь фирменные джинсы, портфель «дипломат», жевать жвачку, слушать магнитофон, есть финскую копченую колбасу «Салями» и ездить отдыхать на море, в Крым, на Кавказ или в Прибалтику. Ему было лет двенадцать, когда он твердо решил — у меня все будет, я сам всего добьюсь. Но этими своими планами Володя ни с кем не делился. Мама всячески избегала подобных разговоров, а в школе внушали, что мещанство и вещизм — это очень плохо и недостойно советского человека, будущего строителя коммунизма.