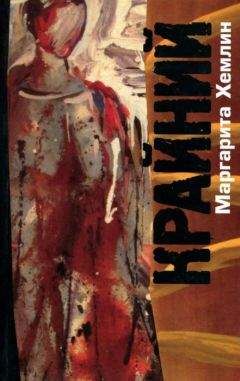Гриша выглянул в окно.
Спросил утвердительно:
— Нишка!
Я ответил.
Гриша быстро отомкнул двери:
— Не заходи. Пойдем в сарай.
В сарае было пусто. Только старые корзины, какая-то рухлядь.
Я спросил:
— Что, батько уже не мастерит ничего?
Гриша с сожалением ответил, что Дмитро Иванович умер. Порядок в сарае навела жена Гриши. А женился Гриша только-только. На нашей с ним бывшей однокласснице Шуре Климчук. Месяц как женился.
Я поздравил с торжественным событием. И дальше не знал, что делать.
Поэтому начал прямо:
— Мой отец оставил твоему кое-что. Точно сказать не могу. Дмитро Иванович сховал. Может, по болезни сам и забыл, где. Тебе неизвестно?
Гриша быстро начал отрицать. Слишком быстро. И потому я надавил.
— Это мое. Мне отец оставил. Если ты знаешь, а не признаешься, пускай тебе станет стыдно перед моим лицом. Ты все равно что украл. А у меня жена беременная. Двойня. Скоро рожает. Мы без копейки. Вся надежда у меня была на ту отцовскую передачу. Не хочешь все отдать — я ж понимаю — отдай половину. Имей совесть.
Гриша стоял передо мной в длинных синих трусах, сатиновых, и в синей майке. Наверно, форменной. Босой. Но не сдается. Держит фасон.
Как будто очнулся со сна.
— Слухай, Нишка. Ни черта я тебе не должен. Ничего не знаю. Мой батько умер. И твой умер. Так что боевая ничья. Что он сюда припер — покрыто мраком. Индийская гробница над этим. Понял?
Я отступаться не собирался.
— Ты, Гриша, товарища Субботина помнишь?
Гриша посерьезнел, даже руки по швам сделал.
— Помню. А як же.
— Он тебе поручил поручение. Помогать мне. В чем — не твое дело. У меня важное задание. А ты саботируешь. Не помогаешь.
Гриша замялся. Подтянул трусы, заправил майку под резинку.
— Зачем ты сразу в бутылку лезешь. Я ж тоже не просто так кобенюсь. Мне проверить надо, с какой целью, что, почему. Про задание я помню. Мне как товарищ Субботин сказал — до особого распоряжения, так я этого особого распоряжения и жду-не дождусь. А ты, значит, особое распоряжение от Субботина принес?
— Именно что. Особое. Гони, что говорю.
Гриша замялся.
— Ночью в хате грюкать. Жена испугается. Я тебе сюда подстелю ряднинку, поспишь, утром обделаем, как положено.
Я, как женатый на беременной, пошел на снисхождение.
Говорю:
— Конечно, давай по-человеческому. Утром.
Гриша мне постелил в сарае. Я заснул.
Спал и мечтал про торбу. Не в первый раз, надо сказать. Только раньше смутно. А теперь уверенно.
Когда обнаружилось у деда Опанаса еврейское мыло в количестве двух штук — одно смыленное, другое новенькое, — я понял, что отец оставил у Винниченки торбу именно с этим добром. С мылом. Сильно разозлился от непонимания. Зачем отцу было городить огород, доверять Винниченке, который насквозь в еврейской крови, еврейское же мыло из невинных останков людей. В этом мне виделось неизгладимое издевательство надо всем. Над войной, надо мной, над Янкелем, над Хаечкой и прочим в том же роде и духе. Потом я надумал, что мыло отец вручил Винниченке на вечную память, чтоб полицай не забывал. Оставил и наказал передать мне, если я живой, чтоб я хранил и другим показывал. И так и дальше. С собой в Чернигов не потащил, так как не имел уверенности, что найдет меня по указанному адресу. Тут вроде склеилось. Перед школьниками выступать.
Но вполне меня устраивала другая возможность. Я надеялся краем измученного сердца, что в торбе зашито любящей отцовской рукой что-нибудь по-настоящему ценное, пригодное для улучшения жизни. Мыло — это хорошо в смысле прогрессивного человечества. Но хоть что-то ж еще должно было быть. Что-то ж еще мой отец, который не доверился моей матери, должен был оставить своему единственному сыну. Спасенному кровавой полицайской рукой.
И вот наступило утро. Гриша зашел в сарай с торбой. Перевернул ее вверх тормашками. Потряс. На землю выпали пять кусков еврейского мыла.
Я еще лежал. Подгреб их к себе под живот, закрыл.
Говорю:
— Давай сюда торбу.
— Зачем? Она ж пустисинькая.
Гриша потряс ею в воздухе.
— Пылюка. Я думал тебя с Корюковки забрать, вручить торжественно. А то моя жинка любопытная. Увидит, будет приставать, а то и в дело пустит. Вещь же ж хорошая. А ты смылся. Пуганый ты сильно, Нишка. — Гриша улыбнулся без зла и продолжил серьезно, как отчет на общем собрании: — Батько торбу на чердак закинул. Клялся мне, что сразу и закинул, как твой батько ушел. Моисей просил его, чтоб сохранил. Денег дал. Немного, но дал. Сказал — сохрани. Никому не показывай, а сам сохрани. Батько тогда запуганный был. Ждал, что в Сибирь загонят. Просил, чтоб Моисей за него в случае чего сказал слово, мол, не в претензии как еврей. Моисей обещал. Сообщил, что к тебе в Чернигов сходит и торбу обязательно заберет. Объяснил, что тут мыло из евреев. Что такого не слишком много, может, ни кусочка до окончательного суда не остаться, а у него, у Моисея, будет. Он тогда и покажет с демонстрацией. А моему батьке тоже положительно зачтется, если сохранит. Вроде частично искупит себя. Моисей говорил, что такое мыло в магазинах не продавали, а исключительно дарили высоким фашистам. Вроде как для премии или больше для выставки. Нишка, ты думаешь, правда?
— Что из людей делали?
— Нет, что в магазинах не продавали, а штучный товар.
— Ага. Им же гадко было б евреями мыться взаправду. А для выставки сошло б. Я так думаю. А в музее всякое есть. Товарищу Сталину тоже всякие выставки дарят. И папаху громадную великанскую, и сапоги пятидесятого размера. Он же их носить не может. Ни к чему вроде. А дарят. Вот теперь музей открыли. Подарочный. В самой Москве, в сердце нашей Родины. Я еще когда не бегал — в газетах читал. И на политинформации. Так и тут. Но ты, Гришка, мне зубы не заговаривай. Кидай торбу сюда.
Я для убедительности похлопал по земле рядышком с собой.
Гриша кинул.
Торба легкая, светится насквозь, как занавеска. Видно, таскал ее отец перетаскал с одного края света на второй. Я прощупал швы, каждую ниточку пальцем обвел. Ничего.
Гриша улыбнулся:
— Ты что, Нишка, думаешь, я ее со всех концов не щупал? Щупал. Ничего там нету. Сейчас прахом пойдет на воздухе. Пылюка одна. На тряпки даже не годится. А ты ее руками тягаешь во все стороны. Что, Нишка, обделался? Забирай свое мыло — и на суд иди. Как тебе Моисей завещал. Или ты не на суд? Или ты на базар пойдешь, а, Нишка?
И засмеялся. И я засмеялся. Так как не хотелось дальше затевать неприятности, и надо было отвести подозрение насчет ценностей, на которые я рассчитывал.
— Вставай, поснидаем, с жинкой познакомлю наново. Ты ее забыл, Шурку.
— Шурку помню. А ты запомни, что я при исполнении задания. И мыло тоже в задание входит. Я про ценности наплел, чтоб тебе глаза отвести. Ты ж про ценности понимаешь, а про голое задание тебе трын-трава.
Гриша обиделся.
— Нишка, если б я хотел за счет этого мыла несчастного забогатеть, я б его продал, и ты б его только и видел. Людям же ж все равно — что еврейское, что собачиное. Особенно если не знать.
Я согласился.
Гриша продолжил свои доводы:
— Мне в пайке мыло дают. У меня мыла хватает. Захочется веревку намылить — к тебе не побегу. Не беспокойся.
И язык прикусил.
Мне не терпелось уйти. Но я спросил Гришу, что, может, появлялся на его горизонте Субботин? Вроде я и сам знаю, но проверяю Гришину честность.
Гриша ответил, что не появлялся. И всем своим видом показал, что понимает, что я его проверяю. Дело такое.
Тогда я спросил, что, может, ищут меня, особенно через милицию? Гриша ответил отрицательно.
Тогда я спросил, что, может, в Остре появлялся Янкель?
Гриша ответил, что появлялся. С неделю тому назад. И очень даже появлялся. И рассказал мне в лицах, как кино. Что сам видел лично и что ему бабы доложили.
Нога у Янкеля то заживала, то отживала. Он мучился. Вот и пришел в родные стены успокоиться. Но успокоиться у него не получилось, так как он сильно выпил лишнего и пошел по Остру давать концерт. До войны, когда Янкель был молодой, с ним один раз подобное случилось. Мощность перла из него наружу, и он ее водкой пытался засунуть куда надо. А она не засовывалась. Его жена Идка с детьми с улицы забирала. От стыда не знала, куда глаза запрятать. Янкель тогда орал, чтоб люди добрые его не судили, что он от радости выпил. Был еврейский праздник Пурим, и полагалось. Но подобные праздники не приветствовались властью. А Янкель всем встречным и поперечным раздавал печенье в виде ушек с маком, которые испекла его жена, и тем самым подставлял под удар и жену, как отмечающую предрассудки.
Тогда Остёр смеялся и Янкель смеялся. И остался в памяти народа как Янкель с ушками. А теперь он с горя напился и стучал во все двери с предложением всеобщего собрания в театре — бывшей синагоге. Никто не шел. Так он за рукава тянул. Люди вышли на улицу.