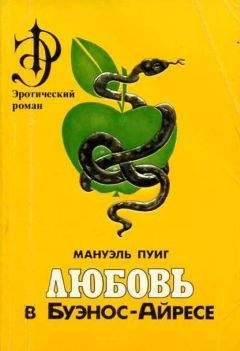Как я был к нему несправедлив, прежде всего, из зависти к его предприимчивости, уму, самодостаточности! А теперь он погиб, погиб при исполнении своего домашнеживотного долга!
* * *
Чтобы не мучить себя бесплодным состраданием, я задвинул образ Эдгара подальше в подсознание и вернулся к беспросветной действительности. Полежав во мраке, сунул голову в люк, послушал.
Тихо…
Попытался сообразить, сколько времени нахожусь в заточении. С 14-30-ти — это точно. Но какого дня? Вчерашнего? Позавчерашнего? Нет, вчерашнего — после двух дней голодания сильно есть уже не хочется… А мне хочется. Да так, что съел бы полдюжины крыс…
Улегся, сглотнув слюну. Чтобы не думать о еде, об участи, стал вспоминать прошлую свою жизнь. Вспомнил ее свет. Вспомнил голубые и черные горы, вспомнил цветники под ледниками, форель на крючке и черные свои обмороженные ступни, вспомнил проходчиков, шебутных и гордых — во, ребята! Да, вот бы сейчас заснуть и проснуться утром в прозрачной от солнца палатке. Съесть тазик макарон по-флотски, и в маршрут на ледяную гору… Забраться на самый верх, а часа в три сесть у родника в первобытную зелень, сесть усталым до безразличия, сесть, достать фляжку с крепким чаем, банку сгущенного молока, обломанную краюху черствого хлеба, пару кусочков сахара и съесть все это, поглядывая на горы и голубое небо… И потом опять уйти в скалы и до темноты бегать от обнажения к обнажению, набивая рюкзак все новыми и новыми образцами и пробами… В горах, тайге, пустыне все ненормально. Ненормально красиво, ненормально остро, ненормально врезается в жизнь и память. И люди там ненормально закрученные. А другие в горах случайны. Они здесь, внизу, в городе. Как отец, как братья. В комфорте, рядом с деньгами и развлечениями, больницами и концертными залами… Они в городах, потому что в них есть этажи и ступеньки и при желании всегда можно взобраться не выше себя, как в горах, а выше точно такого же человека. Взобраться и, взирая на оставшихся внизу, ощущать себя значимым… Эти города… Всё в них душевнобольное, вымученное, искусственное, все придуманное. Изобретенное. Даже кошки».
Я вспомнил первую встречу с Эдгаром в электричке. Теодору с памперсом. Поход в кошачий магазин. Наталью…
Да, сказки не получилось. Кот не смог съесть Людоеда.
А Людоед съел Карабаса. Съел меня. И сейчас я у него в желудке. Лежу, неспешно перевариваемый мраком.
Я засмеялся — надо же, до чего дошел там, наверху от убожества жизни! За котом пошел, как за Наполеоном, Карабасом назвался.
Идиот…
А впрочем, это как посмотреть.
Классным специалистом стал — ноль прибытку.
Кандидатом наук сделался — тоже шиш с маслом.
Дюжину романов с романтикой сочинил — два шиша.
А назвался с дуру маркизом Карабасом — сразу успех и виды на благополучие. Катался бы всю жизнь как сыр в масле, если бы не эти бабы.
Вот эти женщины! И что во мне такого? Как увидят — так сразу в глазах охотничий блеск. И все Адели, да Надежды, Адели и Надежды. Все одним лыком шиты. Жадные, нервнобольные, ограниченные.
Нет, я все же дурак. Если бы согласился на Адель, сидел бы сейчас не здесь, а в Арбатском военном округе. Ну, не сидел бы, а посидел с полгода, потому что в другого бы с жадности влюбилась. Но ведь посидел бы, отметился, поставил в биографии галочку? Что, плохо на Арбате посидеть? Там у них девушки в форме…
А Надежда? Чем была плоха? Ну, есть пара-другая бзыков. Так это нормально, тем более, главное предназначение любого мужчины — это неусыпное выбивание из любимой женщины всяческой дури. Ну, не выбивание — это грубо, а выдавливание ее по капельке. Выдавливание с закрытыми глазами, ибо с открытыми глазами не получится — руки опустятся после первых трех лет.
Да, выдавливание. Не холит, не лелеет, не кормит вкусно — выдавливай, ладошкой так, сверху вниз по обнаженной кожице, ладошкой выдавливай. С маменькой своей каждые полчаса прохаживается по поводу низкой твоей социальной значимости — выдавливай ладошкой сверху вниз ладошкой. Поздно от любовника приходит, да вся, довольная, как миллион долларов — выдавливай, предварительно, конечно, с мылом помыв, да с мочалкой.
Ну да, выдавишь из них… Они выдавят, выжмут, разымут на молекулы. Ну их к бесу. Здесь лучше. Поймал, крыску, поел, кровушки попил, остатки под люк для приманки — и спать. Чем не жизнь? Да и Судьба есть на свете. Выручит, в последний момент, точно выручит, посмотрю еще на солнышко.
Ведь выручала раньше?
Крыса появилась, лишь только я задремал. Она, размером с собаку, вцепилась мне в нос и потащила в короб.
Опять я оплошал. Это была не крыса, это был Эдичка. В темноте он угодил мне лапой в нос, и тут же улетел в дальний угол от реактивного удара правой. Мне было неловко — кот приходил в себя минут пять.
— Friendly fire, прошу прощения, — сказал я, когда жертва моего страха, оклемавшись, подползла под бочок.
— Мяу?.. — не понял он.
— Ну, дружественный огонь, это когда свои по своим с перепугу палят.
— Мяу… — сказал он неразборчиво, но понял, что кот в своей мысленной записной книжечке сделал запись: «Как-нибудь с перепугу дружественно уронить на хозяина кирпич».
— Ну как, нашел выход? — спросил я, подумав, что «как-нибудь» у меня может и не случиться.
— Мяу… — довольно потянулся кот.
Я погладил ему живот. Он был набит до отказа.
— Что, крыс нажрался? — пребывание в склепе, считай, в могиле, значительно упростило мои манеры.
— Мяу.
«Да. Их там море», — послышалось мне.
Следующие несколько минут я уговаривал себя пойти к этому серому с голыми хвостами морю. Кот тем временем поднялся на ноги и скрылся в коробе. Когда воображаемые крысы стали выглядеть аппетитнее бифштекса с кровью, я полез следом.
В «Беге в золотом тумане», в первом моем романе, контрабандисты замуровали героя в древней копи; пытаясь выбраться, он застрял в сужавшемся отверстии и долго, очень долго в ней умирал. Надежда говорила, что читала некоторые мои романы, и, когда я в очередной раз намертво застревал в бесчисленных изгибах короба, в переплетении кронштейнов, проволок и труб, то обжигавших до волдырей, то холодивших могильной стужей, мне виделась ее злорадная улыбка. Виделся мне также и мстительный оскал Эдички, отсидевшего по моей сатрапской воле около часа в сантехническом отделении туалетной комнаты, в тесном соседстве с кронштейнами, проволоками и трубами, обжигавшими до волдырей и холодивших могильной стужей. Кстати, эта двадцати шести палая гроза бультерьеров запаслась мясом года на два — на горячей трубе и под ней почитай каждые метр-два вялились загрызенные им крысы. Возможно, все это — мясо (люблю вяленое мясцо, почти так же, как сгущенку), злорадная улыбка Надежды и мстительный оскал кота — и помогли мне сохранить самообладание, и через вечность, ни разу не столкнувшись с живой крысой, я увидел впереди свет.
Он лился из колодца, в который ныряли трубы, ставшие мне ненавистными. Радостный, предвкушающий увидеть раскрытую дверь на волю, да черт с ней, с волей, просто раскрытую дверь, в которую можно пройти в полный рост, я полез в колодец, и, не удержавшись, полетел вниз.
Комната, в которую я вывалился из колодца, освещалась лампочкой, висевшей на длинном проводе, и наполовину была полна водой, лившейся из трубы, долгое время холодившей меня могильным холодом. Вынырнув, я увидел босые ноги, подсвеченные ярким светом лампы накаливания, свисавшей с потолка. Я увидел босые женские ноги. Они стояли на чугунной канализационной трубе, горизонтально прилепившейся к стене. Отметив, что вода медленно, но прибывает, я посмотрел на обладательницу стройных босых ног. Сразу я этого не сделал, потому что боялся увидеть любительницу экстремального секса…
Увидев, кто стоит на трубе, я вмиг разучился держаться на воде и потому чуть не захлебнулся. Это было смешно, и сверху смеялись.
Смеялась Наташа.
Да, на трубе в ярком красном платьице, конечно, мокром и потому просвечивавшем (увидел груди, животик, лобок), стояла она, стояла, держа туфельки в руках. Если бы это была Надежда, я бы не ушел под воду от растерянности. А так ушел. Я же, хм, маркиз. А маркиз не может появиться перед любимой леди в продранных в нескольких местах брюках и рубашке, не может появиться перед леди с лопнувшими волдырями на правой стороне тела, не может появиться перед любимой девушкой с десятком кровоточащих ссадин, и, тем более, сутки не бритым.
Однако было холодно, и мне удалось довольно быстро опамятоваться. Выпустив голову из воды, я почтительно склонил ее перед девушкой и сказал:
— Здравствуйте! Я из службы спасения «Мосводоканала». Надеюсь, вы не успели отчаяться?
Вероятно, с кровоточащей шишкой на лбу и без дипломата со слесарными инструментами, я выглядел недостаточно представительным, и Наташа помрачнела.