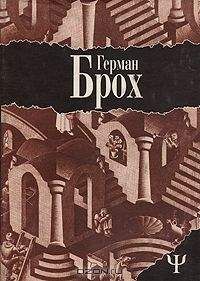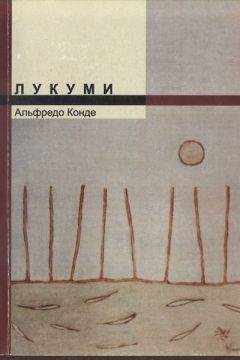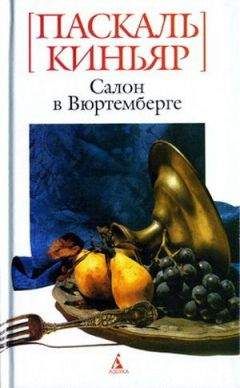Впрочем, средневековью тоже было знакомо действие. И столь сильно хотелось новому позитивизму подняться над схоластическим платонизмом, что он, отсылая индивидуум к одинокому "Я", одновременно отмел и "позитивистские корни" всего платонического. Новый христианский мир не только протестовал, он также реформировался, воспринимал себя, прежде всего, как возрождение христианской мысли, и даже если вначале он выступал без теологии, то позже на автономной и суженной основе он развил чисто платонически-идеалистическую теологию — ведь именно так можно истолковать философию Канта. "Направление ценности", этическое требование к действию не изменилось по сравнению со средневековьем, да и не могло измениться, ведь только в действующем стремлении к ценности и к ее абсолютности конституируется сама ценность — что-либо иное, чем абсолютные ценности, просто не существует. Что изменилось, так это выделение определяющего ценности действия: если до сих пор интенсивность абсолютизации касалась общей ценности христианского Органона, то теперь радикальность самоутверждающейся логики, строгость ее автономии сепаратно подчинена каждой отдельной области, каждая из этих отдельных областей абсолютизировалась в собственную область ценностей, в мире появилась та стремительность, рядом с которой независимо и самостоятельно должны существовать абсолютизированные области ценностей, та стремительность, которая придала эпохе Возрождения характерную для нее окраску.
Конечно, можно возразить, что общий стиль времени в одинаковой степени охватывает все несовместимые области ценностей, что даже личность Лютера ни в коей степени не ограничивается аскетически какой-то отдельной областью, напротив, именно при нем своеобразно объединяются религиозные и мирские моменты. С таким же успехом можно сказать, что тут происходит всего лишь зарождение развития, для полного разворачивания которого потребовалось пятьсот лет, что время преисполнено тоски по средневековому содержанию и что именно такая личность, как Лютер, хотя и не следуя логике, но в силу своего человеческого богатства, объединила в себе самые несовместимые ценностные тенденции, идя навстречу потребностям эпохи, делая эпоху своей и оказывая на нее влияние, которому пришлось быть неизмеримо большим, чем влияние "более логичного" Кальвина. Возникает впечатление, как будто бы время все еще полно страха перед "строгостью" и зарождающейся безмолвностью, как будто бы оно и не стремилось преодолеть это страшное приближающееся безмолвие и как будто бы ему поэтому пришлось стать часом рождения нового языка Господнего, часом рождения новой полифонической музыки. Но это все предположения, которые невозможно доказать. Более того, можно наверняка утверждать, что это состояние эпохи, эта спутанность начала были тем, что сделало возможной католическую контрреформацию, что боязнь зарождающегося одиночества и изолированности инициировала готовность к движению, которое обещало снова найти единство, ибо контрреформация взвалила на себя гигантскую задачу опять собрать исключенные из строгой религиозности протестантизма области ценностей, попытаться снова собрать воедино мир и все его ценности, стремясь под руководством новой иезуитской схоластики опять-таки к средневековой целостности, на основе которой навсегда сохранит свое божественное положение господствующее платоническое единство церкви как высшей ценности над всеми другими областями ценностей.
Часовщик Замвальд теперь часто навещал госпиталь. Он посещал те места, где ухаживали за его братом, он хотел выразить свою благодарность и проявлял ее не только тем, что бесплатно чинил часы в лазарете, но и предлагал также всем пациентам и персоналу безо всякой оплаты отремонтировать карманные часы. А затем он бывал у ополченца Гедике.
И Гедике ждал этих визитов. С тех похорон кое-что стало? ему понятнее, а на душе- спокойнее; земное начало в его жизни как-то уплотнилось, но тем не менее оно казалось возвышенным и бестелесным, не теряя при этом своей явственности. Теперь он четко знал, что не следует пугаться темноты, за которой стоял тот другой Гедике или, вернее, стояли когда-то много Гедике, что ему больше не нужно бояться того темного шкафа, поскольку это было просто время, когда он лежал в могиле. И если теперь приходил кто-то, кто пытался напомнить ему о том, что предшествовало его возложению в могилу, то не было больше необходимости испытывать страх, а можно было отделаться, так сказать, простым пожиманием плеч, зная, что это не имеет уже совершенно никакого значения. Теперь ему надо было всего лишь выждать, ведь не нужно было больше бояться жизни, которая окружала его, даже если она подбиралась уж очень близко: смерть его была позади, и все, что приходило, служило только тому, чтобы выше и выше возводить каркас. Хотя он по-прежнему не произносил ни единого слова и не слышал, когда к нему обращались сестры или соседи по палате, но его немота и глухота были в гораздо меньшей степени защитой всех его "Я" и его одиночества, чем пренебрежением и наказанием нарушителю спокойствия. Терпеть он мог только часовщика Замвальда, он даже ждал его.
Замвальд действительно приносил ему облегчение. Даже когда Гедике шел, сгорбившись и опираясь на палки, он мог смотреть на маленького ростом часовщика свысока; но это ни в коем случае не было существенным. Более важным наверняка было то, что Замвальд, который как будто понимал, кто перед ним, не предпринимал ни малейшей попытки выпытать у него что-нибудь и чем-нибудь намекнуть на то, что ему, Людвигу Гедике, было неприятно. Замвальд, собственно, вообще мало говорил. Когда они сидели вдвоем на скамейке в саду, он показывал ему часы, взятые в ремонт, открывал крышку, так что можно было увидеть часовой механизм, и пытался объяснить, что неисправно. Или же он рассказывал о своем покойном брате, которому, как он говорил, можно позавидовать, ведь он прошел уже все и находится теперь в лучшем мире. Но когда затем часовщик Замвальд начинал рассказывать о рае и о небесных радостях, то, с одной стороны, с его рассказом не совсем можно было согласиться, поскольку он касался конфирмационного обучения уже исчезнувшего мальчика Гедике, с другой стороны, впрочем, это звучало словно хвалебная ода мужчине Гедике, который уже побывал в лучшем мире. И когда Замвальд рассказывал о собраниях по изучению Библии, которые он обычно посещал и на которых на него многократно снисходило просветление, когда он рассказывал, что бедствие этой войны должно в конечном итоге привести к просветлению души, то Гедике уже не слушал его, одно только это издали казалось похожим на подтверждение призываемой обратно жизни, это было похоже на требование занять в этой жизни в определенной степени потустороннее место. Маленький часовщик напоминал ему кого-то из мальчиков или женщин, подносящих кирпичи к укладываемой стене, с которым вряд ли стоит- говорить, с которым обращаешься в высшей степени грубо и который, как бы там ни было, нужен. Должно быть, это послужило причиной того, что как-то он позволил себе прервать рассказ часовщика и повелительным тоном сказал; "При-неси мне пива", а поскольку этот приказ не был выполнен немедленно, то он с возмущенным непониманием уставился перед собой. На протяжении многих дней он сердился на Замвальда, не удостаивал его даже взглядом, и Замвальд ломал голову над тем, как можно снова помириться с Гедике. Это было достаточно сложно. Гедике, собственно, и сам не понимал, что он сердится на Замвальда, и очень сильно страдал от того, что ему под давлением какой-то непонятной навязчивой необходимости при встрече с Замвальдом приходится отворачивать лицо. И не то чтобы он считал именно Замвальда виновником такой необходимости, но он сильнейшим образом обижался на Замвальда, что эта необходимость никак не проходит. Это был своего рода мучительный поиск друг друга, имевший место в: отношениях этих двух мужчин, и то была едва ли не гениальная мысль часовщика, когда он в один из прекрасных дней взял Гедике под руку и потащил с собой.
Было чудное теплое послеобеденное время, и часовщик Замвальд вел бывшего каменщика Гедике за рукав военного мундира, осторожно, шаг за шагом, обходя кучи щебня на дороге. Затем они присели, чтобы немножко отдохнуть, когда Замвальд дернул Гедике за рукав, тот поднялся, и они пошли дальше. Так они добрались до владений Эша.
Лестница, которая вела в редакцию, была слишком крутой для Гедике, поэтому Замвальд посадил его на скамейку перед садом и поднялся наверх один; обратно он вернулся с Эшем и Фендрихом. "Это Гедике", — сказал Замвальд. Гедике не поздоровался. Эшу хотелось показать им садовые постройки. Гедике остановился возле двух парников, стеклянные крыши которых были распахнуты, поскольку Эш производил предзимний сев, и заглянул в углубления, где виднелась коричневая земля. Эш поинтересовался: "Ну как?", но Гедике продолжал безмолвно пялиться в парник. Так стояли они, с непокрытыми головами и в темных костюмах, словно бы находились у незасыпанной могилы. Замвальд нарушил молчание: "Господин Эш организовал занятия по изучению Библии… нам хочется найти Бога". Тут Гедике засмеялся, это не был безумный смех, это был скорее, едва слышный смешок, и Замвальд продолжил: "Гедике Людвиг, восставший из мертвых", он произнес это не очень громко и триумфальным взглядом посмотрел на Эша; да, он выпрямился из своего смиренно сгорбленного положения и стал почти такого же роста, что и Эш. Фендрих, державший под мышкой Библию, посмотрел на него воспаленным взглядом человека, у которого больны легкие, а затем слегка прикоснулся к форме Гедике, как будто хотел убедиться, что там действительно находится Гедике собственной персоной. А для Гедике дело было улажено, и все это оказалось не таким уж и сложным, позволительно было теперь и отдохнуть, он просто опустился на край деревянной обшивки парника, ожидая, что Замвальд присядет рядом. "Он устал", — сказал Замвальд. Эш большими шагами направился обратно к дому и крикнул в окно кухни, чтобы жена принесла кофе. Госпожа Эш выполнила его просьбу, они позвали из типографии также господина Линднера, дабы он выпил с ними кофе, все обступили Гедике, который сидел на выступе парника, и смотрели, как он отхлебывает кофе. И один только Гедике видел перед собой что-то другое. После того, как Гедике насладился кофе, Замвальд снова взял его под руку, и они направились обратно в лазарет, Шли они осторожно, и Замвальд следил за тем, чтобы Гедике не наступал на острый щебень. Иногда они немножко отдыхали. И когда Замвальд улыбался своему попутчику, тот не отводил свой взгляд в сторону.